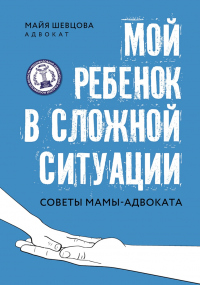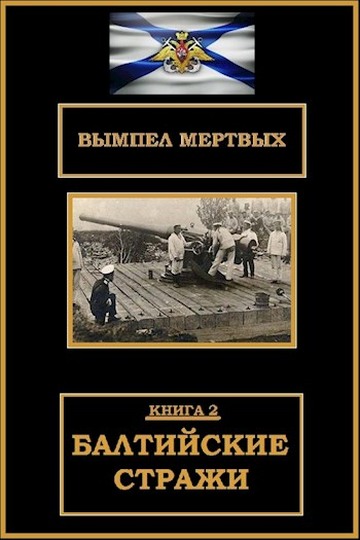Шрифт:
Закладка:
Пятнадцатилетняя Зоя впервые уезжает из дома, от любящей семьи и любимой Одессы, в Деревню Сионистских Пионеров – израильскую школу-интернат.Совсем недавно она не догадывалась о своих еврейских корнях, но после коллапса СССР ее жизнь, как и множества ее бывших соотечественников, стремительно меняется. Зое предстоит узнать правду о прошлом своей семьи и познакомиться с реальностью другой страны, которая, не стараясь понравиться, станет для нее не менее близкой. Девочка из Одессы отчаянно сражается с трудной задачей: открываясь новому, сохранить верность тому, что она оставила позади, – и остаться самой собой.В тонком, ироничном и очень человечном романе Вики Ройтман история взросления девочки-подростка, которая учится справляться с бурными чувствами и принимать самостоятельные решения, неотделима от атмосферы девяностых с ее острой смесью растерянности и надежд на пороге распахнувшегося мира.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.