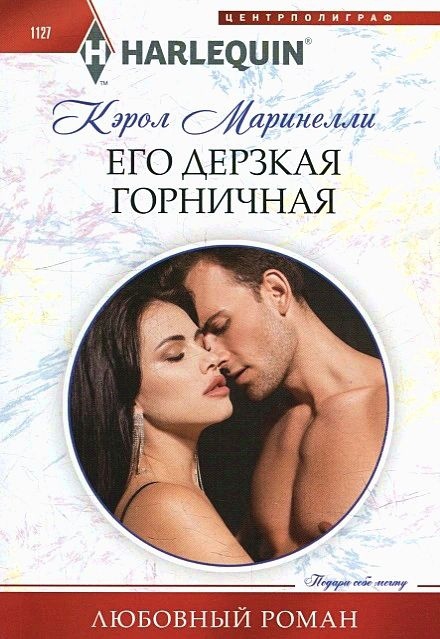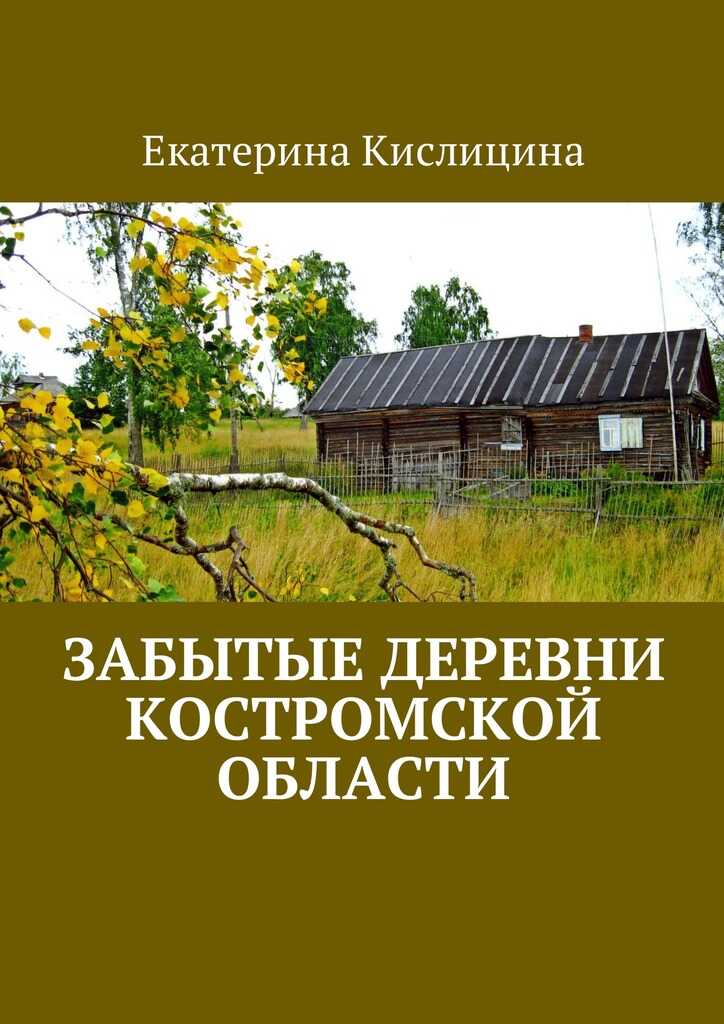Шрифт:
Закладка:
Николай Петрович Вагнер (1829–1907) – русский писатель и учёный, славянофил и мистик – прожил достаточно долгую, насыщенную трудами жизнь. Детство писателя прошло на Урале, впоследствии, посвятив себя науке, он стал профессором Казанского, а затем Петербургского университетов, членом-корреспондентом Петербургской академии наук, редактором научно-популярного журнала «Свет», наконец, президентом Русского общества экспериментальной психологии. Роман «Тёмный путь» вызвал бурную полемику среди прогрессивных критиков своего времени. Он начал выходить в журнале «Ребус» в 1881 г. и печатался вплоть до 1884 г., но опубликованы были лишь первые три части. Последняя, четвертая, вошла в отдельное издание книги в 1890 году. С тех пор роман практически не переиздавался. Это, наверное, самый объёмный и противоречивый труд замечательного русского писателя. Главный герой Владимир Олинский, от имени которого ведется рассказ, пытается найти виновников тяжкого преступления, но постепенно им овладевают идеи всемирного заговора.