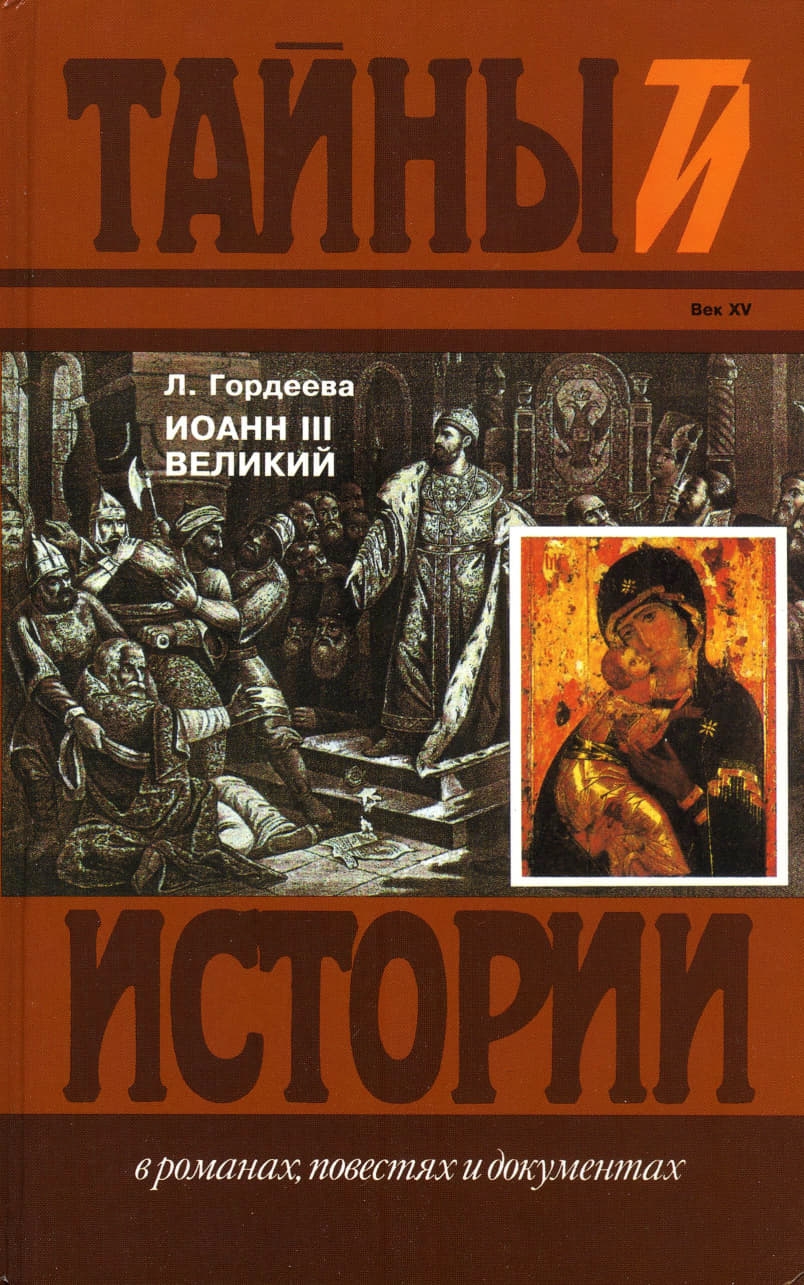Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сборник статей «ПУГАЧЕВЩИНА. За волю и справедливость!» по замыслу составителей должен представить многообразие мнений историков о причинах и последствиях восстания под руководством Е. Пугачева.Последовательный анализ общественно-экономических условий в Российской империи второй половины XVIII века, событий самого восстания, предпринятых мер по его усмирению позволяет сделать определенные выводы, сформулировать предположения, которые еще ждут своих убедительных доказательств.Сборник полезен для тех, кто увлекается историей своей страны, способен применить классовый подход в анализе исторических событий и судеб исторических личностей.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виктор Яковлевич Мауль»: