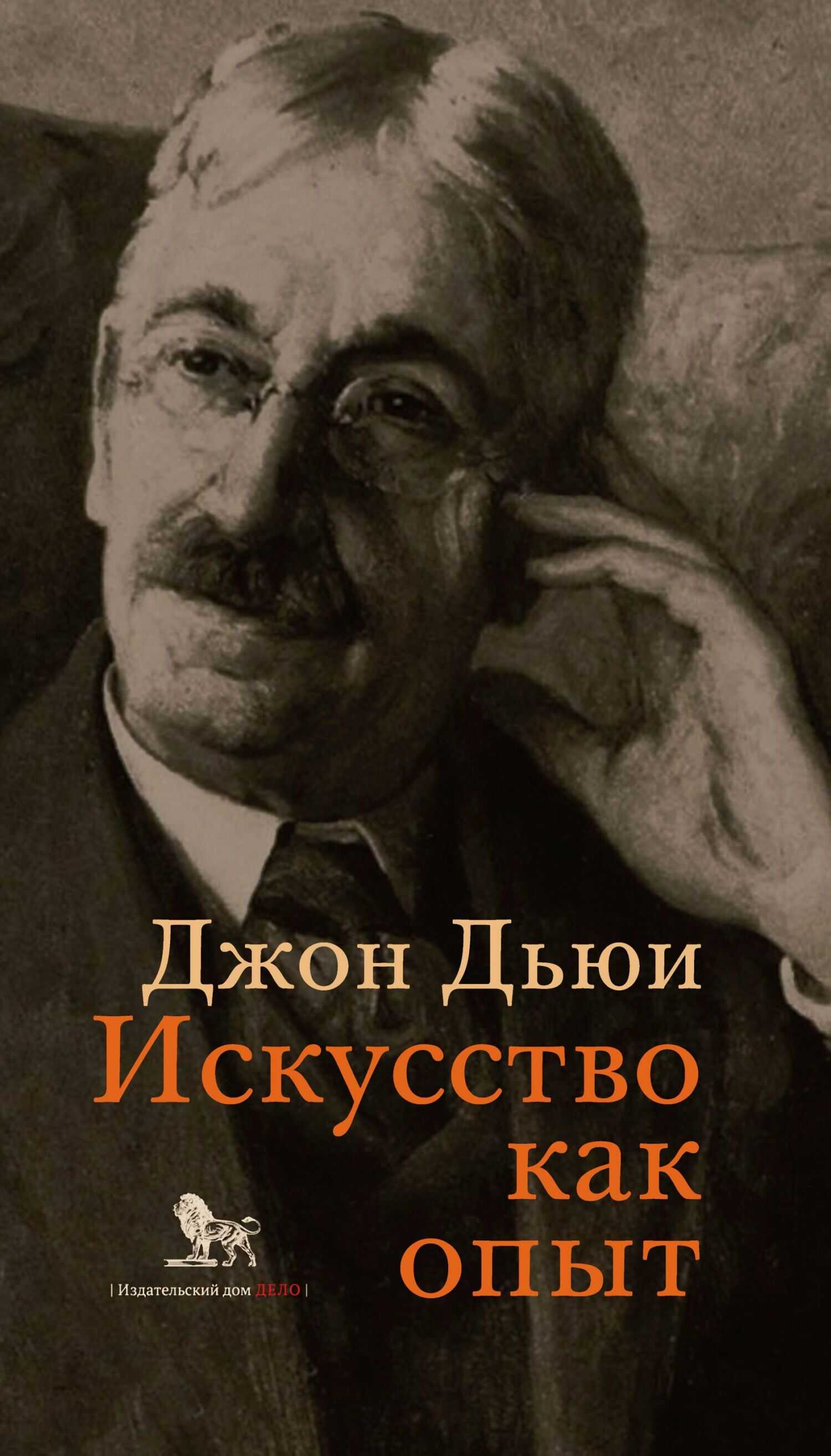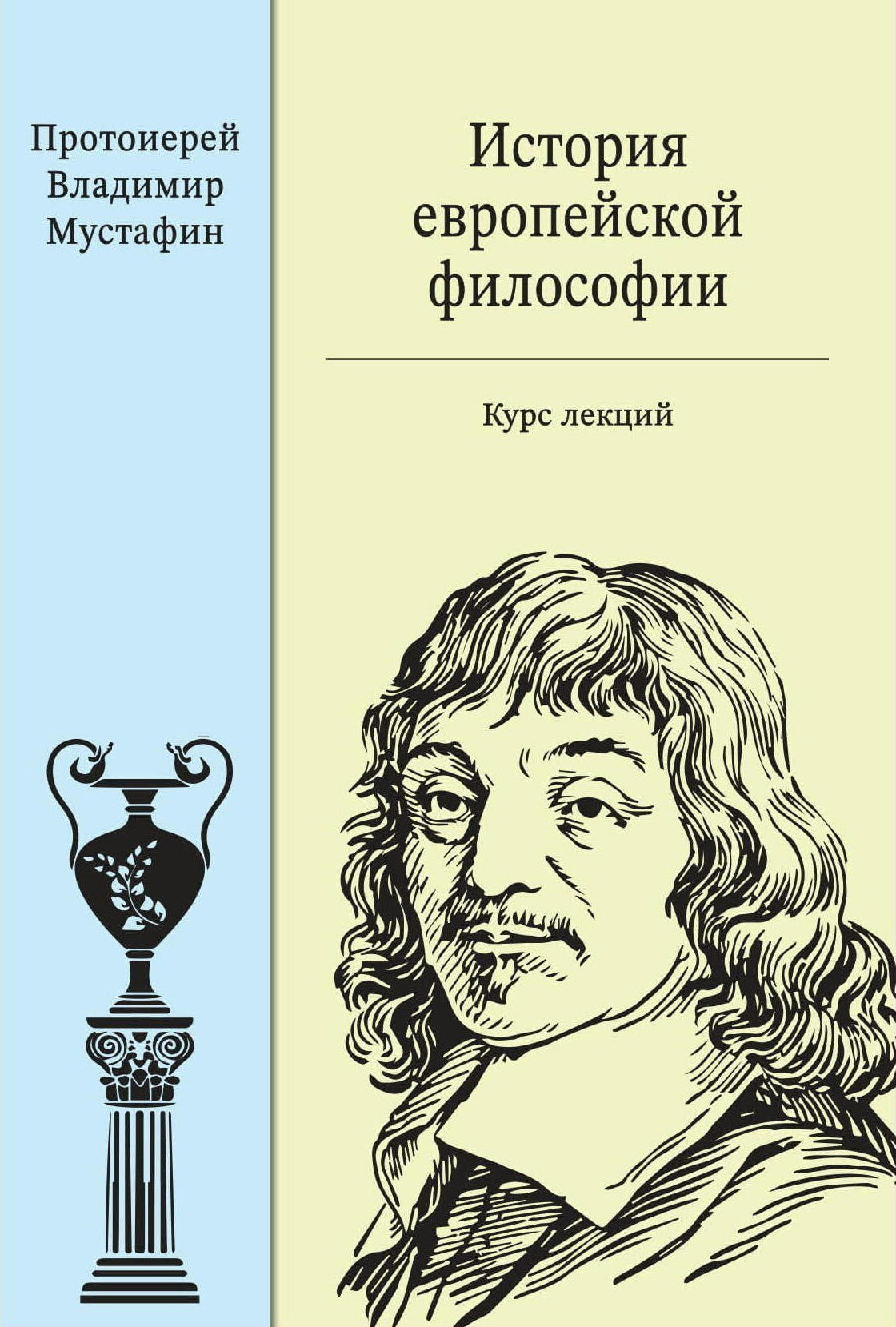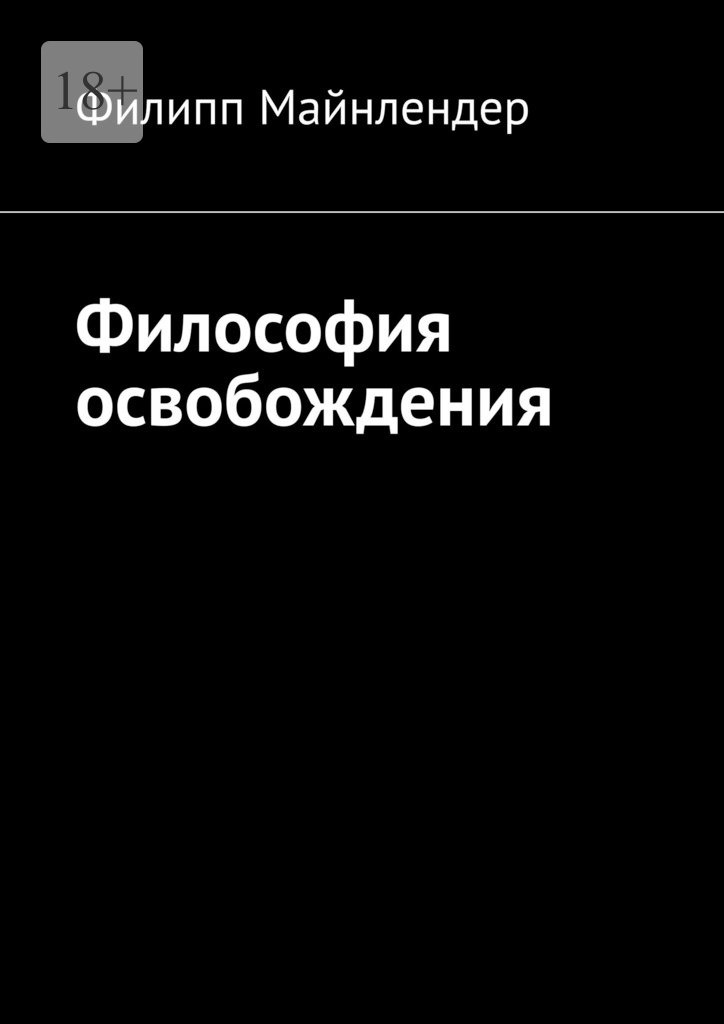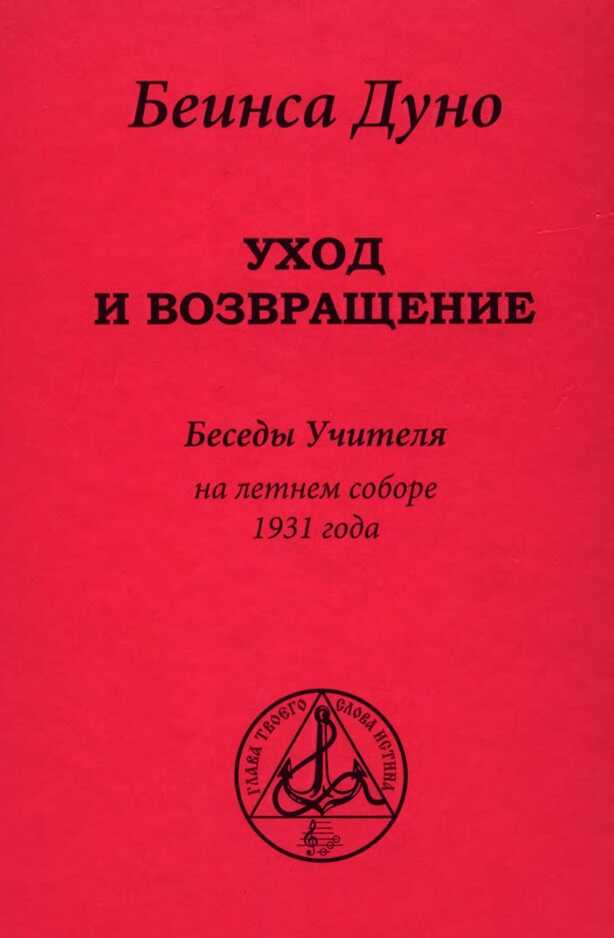Шрифт:
Закладка:
Книгу американского философа и педагога, представителя философского направления прагматизма Джона Дьюи (1859-1952) «Искусство как опыт» (1932) принято считать кульминационным сочинением позднего философского мышления автора. Критикуя попытки ограничить эстетический опыт исключительно областью изобразительного искусства, «Искусство как опыт» оказало большое влияние на тенденции в эстетических исследованиях, которые стремились расширить сферу его применения: от традиционных искусств до популярной культуры, природной среды и повседневности. Вместо исследования того, как наши чувства соприкасаются с реальностью и правильно ли они ее представляют, отправной точкой для Дьюи стало рассмотрение способов формирования опыта как части естественных процессов, к которым фундаментально привязан человек. Для автора эстетический опыт является высшей формой этого взаимодействия. Это фаза, когда, по мнению Дьюи, взаимодействие между организмом и окружающей средой достигает стадии самореализации.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.