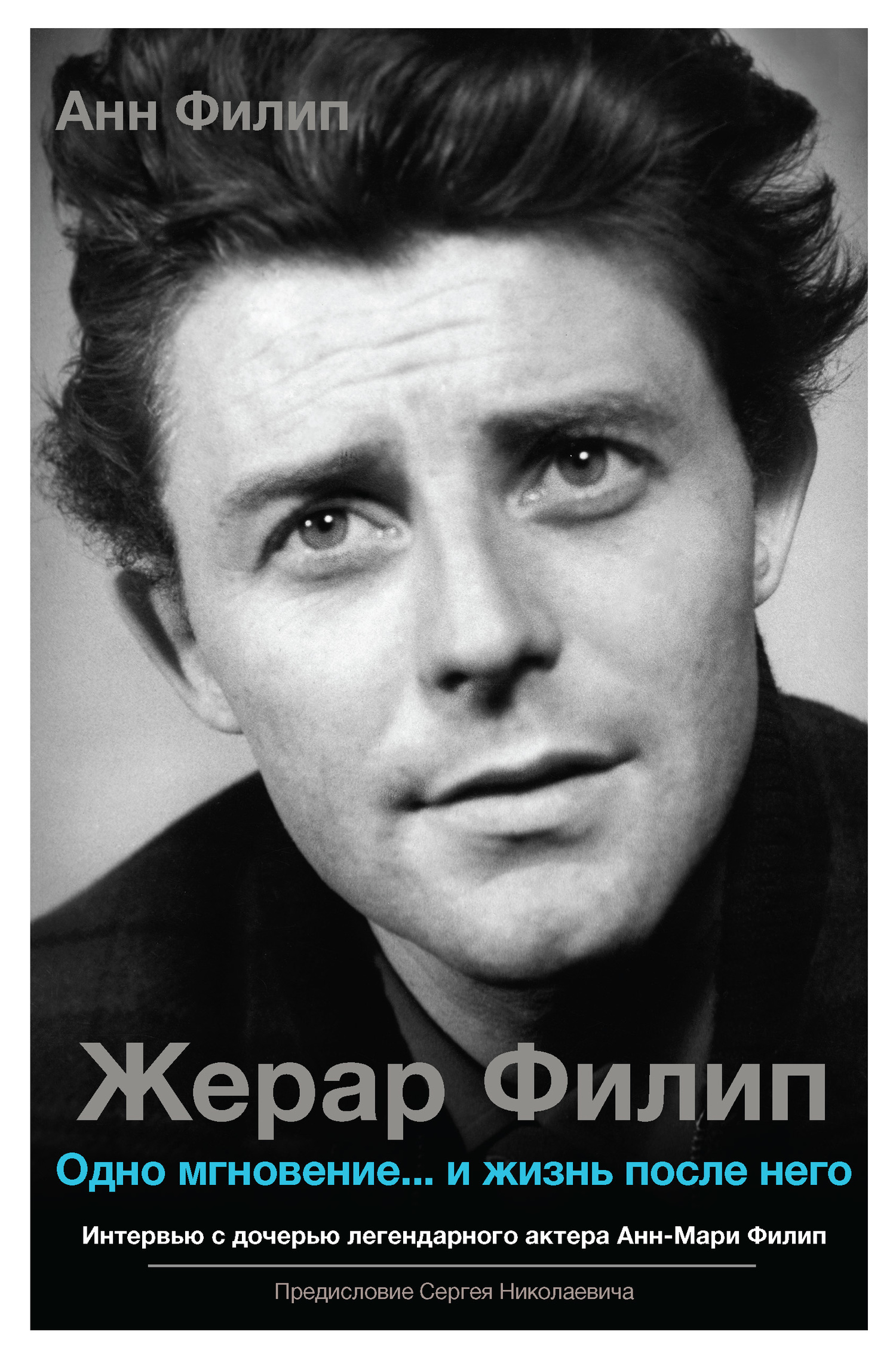Шрифт:
Закладка:
Годфри решил, что хочет использовать в начале фильма кадры запуска ракеты, взятые из архива НАСА.
— Как ты думаешь, какая музыка тут нужна? — спросил он.
— Послушай, — сказал я. — Ты будешь показывать этот фильм в больших кинозалах. История кино — это еще и исто-рия театра, а история театра восходит к соборам. Вот с чего начинался театр — с представлений в жанре мистерии. Давай вернемся к идее, что, входя в театр, мы фактически входим в огромный храм. Какой инструмент мы там услышим? Орган. Пожалуй, не случайно, что в кинотеатрах немого кино таперы играли на органах[61].
Вступительная пьеса начинается как классическая пассакалия в стиле барокко, ее тему задает орган — низкие тоны, так называемый «органный пункт». Затем две верхние клавиатуры органа дополняют полифонию, и мы слышим солиста — бас, поющий название фильма — слово «Койяанискаци». Вступление было призвано подготовить зрителей к действу, похожему на то, что они увидели бы на представлении средневековой мистерии. Я пошел в собор св. Иоанна Богослова на Аппер-Вест-Сайд в Манхэттене, где у меня был знакомый — административный директор Дин Мортон, — и спросил: «Нельзя ли устроить, чтобы я поиграл на органе в соборе?» «Можно, — сказал он. — Я кого-нибудь попрошу, он придет, отопрет вам дверь».
Я пошел в собор и за несколько часов написал пьесу прямо за органом.
Когда вступительная пьеса кончается, на миг воцаряется тишина, а затем постепенно возникает длинный, низкий тон. Следующее изображение, заполняющее экран, — Долина Памятников с бескрайним небом и равнинным пейзажем, панорама, снятая очень неспешно, — девственная, нетронутая природа. Если то, что мы видим, — пейзаж в начале времен, то слышим мы, следовательно, музыку в начале ее истории.
Я мог бы сочинять музыку двумя разными методами: либо комментировать зрительный ряд, либо сделать так, чтобы музыка была тождественна зрительному ряду. Я выбрал второе. Полторы минуты музыка почти не меняется, если не считать того, что выдержанный тон становится то громче, то тише. Затем саксофоны начинают играть одну ноту в ритме оф-бит, намекая, что мы возвращаемся в начало времен, к чему-то очень древнему. Когда музыка начинает выстраиваться, а пейзаж — меняться, становится ясно, что мы уже не в церкви.
Работа над «Койяанискаци» на этапе постпродакшн проходила в Калифорнии, в Венисе, и, поскольку я-то жил в Нью-Йорке, мне лишь частично удалось поучаствовать в этих усилиях так, как я планировал. Следующие три фильма, над которыми я работал — «Душа мира», а также «Поваккаци» и «Накойкаци», — монтировались в Нью-Йорке, в двух шагах от моей студии. Я очень скоро обнаружил: чем раньше музыка входит в фильм, тем больше она помогает направлять рабочий процесс. Годфри меня очень воодушевлял, позволяя это делать.
Некоторые из моих предложений были весьма радикальными на фоне традиционной кинематографической практики. Второй фильм трилогии, «Поваккаци», начинается на золотом прииске Серра Пелада на севере Бразилии. У Годфри были кое-какие кадры, снятые еще раньше Жаком Кусто. Ориентируясь на них, я сочинил короткую десятиминутную пьесу для медных и ударных с ярко выраженным ритмом, а потом поехал с Годфри и его съемочной группой в Бразилию, прямо в Серра Пеладу: на месторождение, где золото добывается открытым способом. В пору бума там работало, теснясь на одном клочке земли, десять тысяч старателей. В 1986-м, когда мы приехали, их было уже меньше — тысячи четыре, наверно.
Крайне странное местечко. Его легко можно было принять за какой-то исправительно-трудовой лагерь в джунглях, но на деле то был поразительный образчик капитализма в действии. Я оказался в Бразилии не впервые — мне доводилось несколько раз бывать в Рио-де-Жанейро зимой, в специальном доме творчества композиторов, так что я мог неплохо объясняться со старателями на португальском. Как только мы приехали, Годфри тут же начал спускаться пешком в карьер — огромный кратер, выкопанный старателями на протяжении шести или семи лет. Каждый старатель владел участком площадью 6 на 9 футов. Все они состояли в cooperativo, и, хотя шахта была обнесена колючей проволокой и повсюду дежурили солдаты, все старатели были, строго говоря, совладельцами прииска. Спустившись на самое дно, мы просто уселись и стали смотреть, как мужчины накладывают землю в мешки и тащат их наверх, карабкаясь по бамбуковым лестницам. Там они вываливали землю в большой деревянный желоб, к которому был подведен ручеек от ближайшей речки. Вода уносила грунт, а золотые самородки оставались.
Я поговорил со старателями в котловане. Их снедала «золотая лихорадка». Ничего подобного я никогда раньше не видел. Вдобавок я подметил, какие здесь все молодые. По-моему, самым старшим было года двадцать два — двадцать три, а некоторые были почти мальчишки.
— Эй, привет, что вы тут делаете? — спросил я.
— Золото ищем.
— А где оно?
— Золото везде, оно тут повсюду. (Широкий взмах рукой — от горизонта до горизонта.)
— Ну и как?
— Да так, нашел несколько самородков. Но когда найду хороший, здоровенный, продам его и вернусь домой. (Собственно, наверху, прямо у края карьера, было отделение «Банка Бразилии».)
— А откуда ты родом?
— Живу недалеко от Белема, в маленьком городе. (То есть в 275 милях севернее.)
— А чем займешься, когда вернешься домой?
— Может, ресторан открою вместе с родственниками. А может, куплю салон «Фольксваген», стану машины продавать.
На самом деле, найдя самородок (хороший самородок стоил пять-шесть тысяч долларов), они его продавали (самородки скупал банк), летели в Манаус и в два дня спускали все деньги. А потом возвращались к работе. Один парень держал там маленький ресторан: шатер, очаг и несколько столиков. Он говорил: «Сам не понимаю, зачем я корячусь на кухне. Под моим рестораном наверняка полно золота. Начну копать прямо тут — найду».
На золоте там были помешаны все. Непоколебимо верили в то, что озолотятся, и некоторые действительно наживали состояние, но разбазаривали его попусту. Каждое утро просыпаешься, выходишь на улицу и