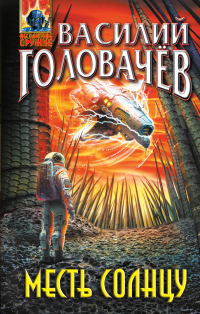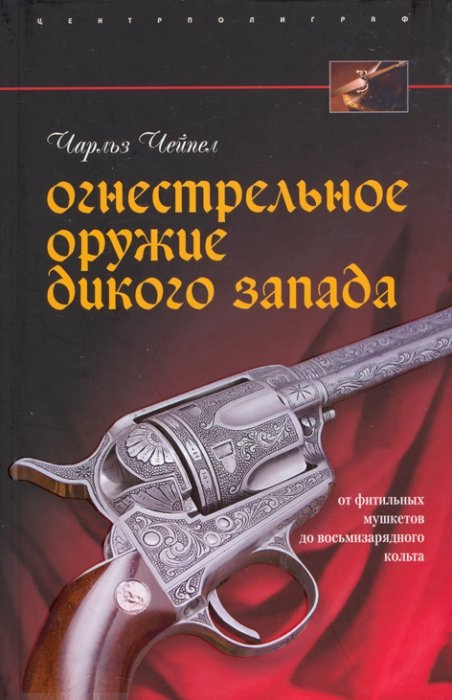Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Извилисты и тихи улицы серебряного города Чехии, спокойна и размерена его жизнь. Ушли в прошлое и величие, и старые тайны. Забылись. И темные страницы истории стали всего лишь легендами, до которых, потерявшему всё и сбежавшему от мира, Диму Вахницкому нет никакого дела. Его жизнь окончена. Даже если Кветослава Крайнова считает иначе. Но старинная кукла, которую получила в подарок Квета, заставит его изменить свое мнение, узнать забытые легенды Кутна-Горы и правду о серебряном городе…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Регина Рауэр»: