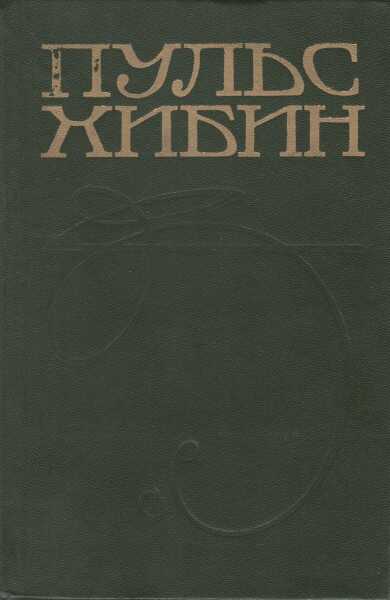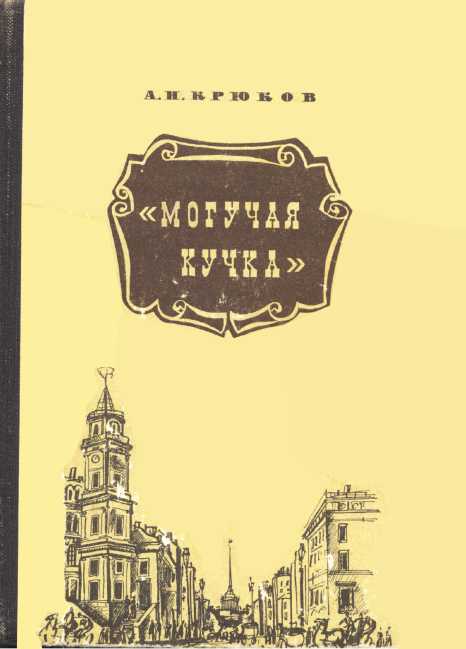Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сборник является своего рода антологией произведений, посвященных труженикам Хибин, истории освоения этого сурового края. В нем представлены очерки и рассказы не только о сегодняшнем дне хибинского Севера, о труде тех, кто добывает «камень плодородия» — апатит, но и все лучшее, что было написано об этом крае в прежние годы. Наряду с произведениями современных ленинградских писателей в книгу вошли очерки М. Горького, А. Толстого, М. Пришвина и И. Катаева.Составители: Борис Николаевич Никольский, Юрий Александрович Помпеев.Художник Леонид Яценко.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Борис Николаевич Никольский»: