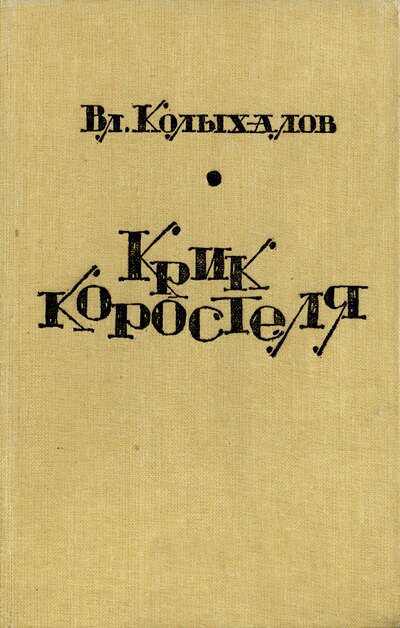Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Основной темой повестей Владимира Колыхалова, представленных в этой книге, стала тема самоутверждения человека как личности, выбора жизненной позиции, ответственности за свою судьбу.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Анисимович Колыхалов»: