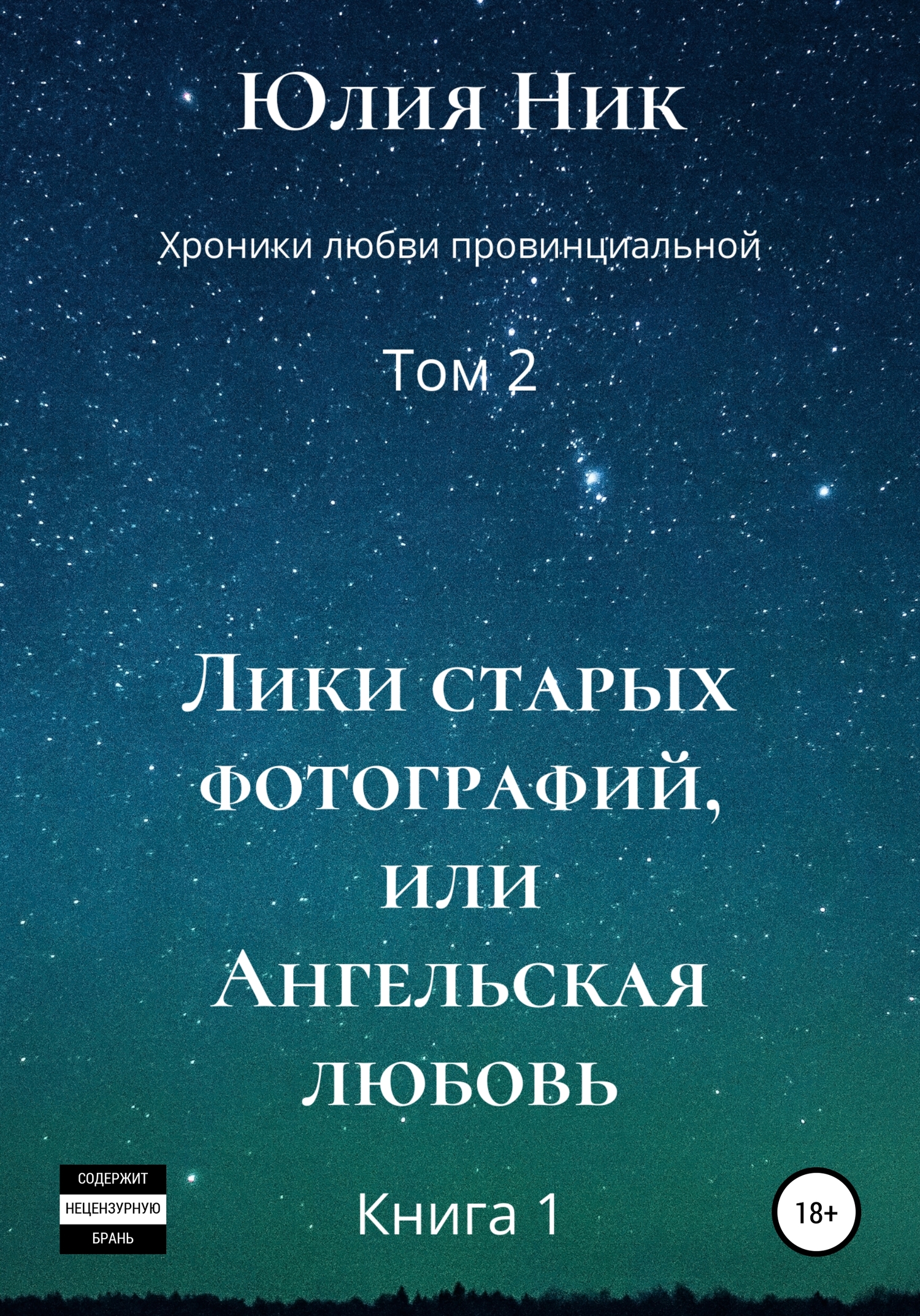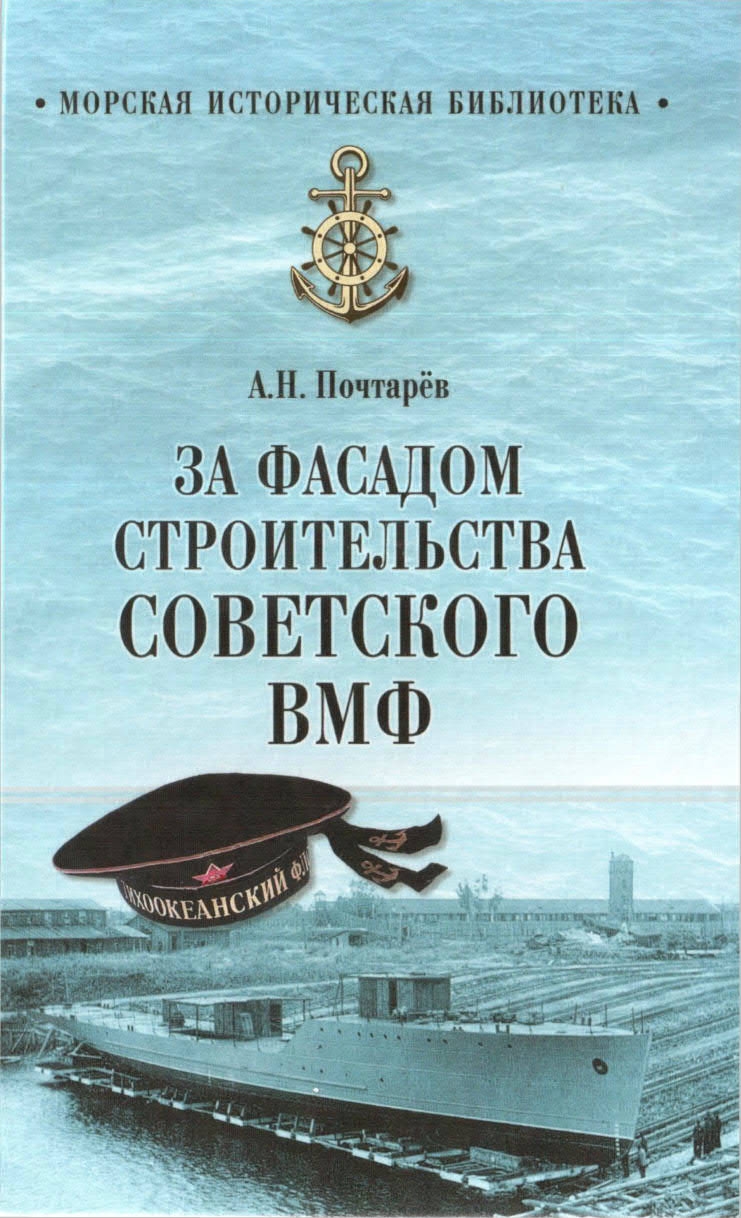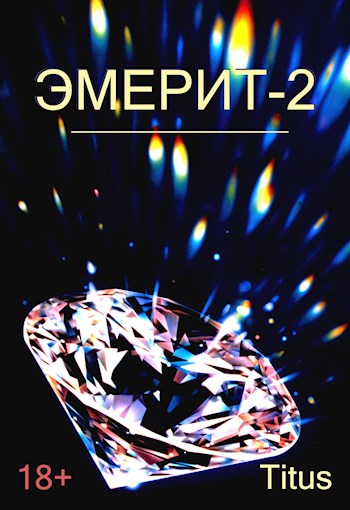Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Казачий пляс» — первая книга романа «Лики старых фотографий, или Ангельская любовь».70-е годы. Молодой, амбициозный и талантливый везунчик по жизни, но слегка ею побитый, приехал к бабушкам изживать в пасторальной сельской тишине свои обиды. Юная девчонка, зализывает раны судьбы и притулилась в этом селе, как в уютной норке. Взрослый мужчина, обречённый жить в этом захолустье, внезапно обретает в этой девочке смысл жизни. Совсем не классический любовный треугольник. Две вершины из трёх должны соединиться для счастья. Всё закончится самым неожиданным образом уже в наше время. Но об этом в последней книге романа «Сквозь пепел цветы прорастают». Содержит нецензурную брань.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юлия Ник»: