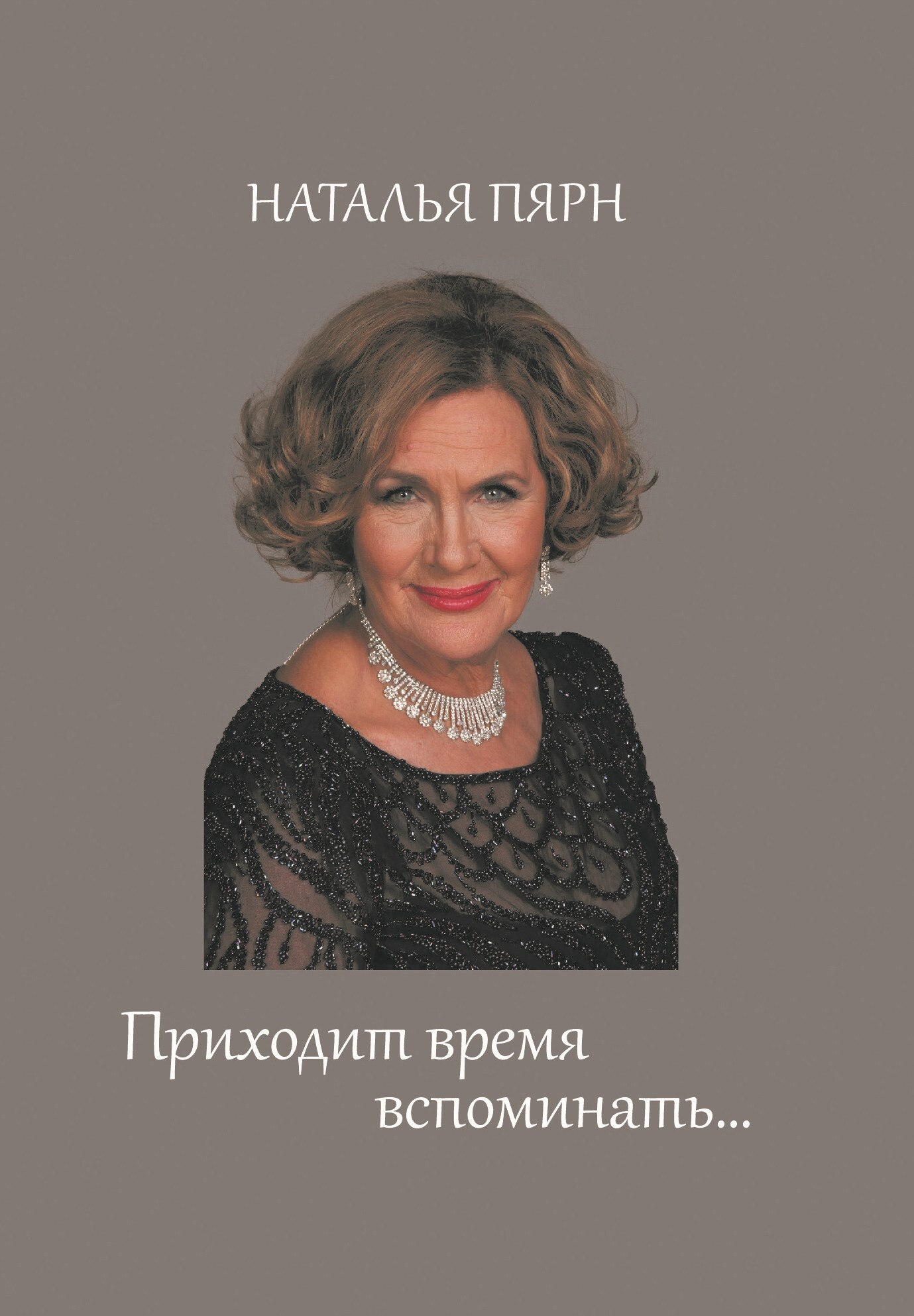Шрифт:
Закладка:
Монография посвящена советской литературе факта как реализации программы производственного искусства в области литературы. В центре исследования – фигура Сергея Третьякова, скрепляющего своей биографией первые (дореволюционные) опыты футуристической зауми с первым съездом Советских писателей, а соответственно большинство теоретических дебатов периода. Автор прослеживает разные способы Третьякова «быть писателем» в рамках советской революции языка и медиа – в производственной лирике, психотехнической драме и «нашем эпосе – газете». Каждая из стадий этих экспериментов требует модификации аналитического аппарата от чисто семиотической через психофизиологию восприятия к медиаанализу носителей. Заключительная часть книги посвящена тому, как литература факта смыкается с аналогичными тенденциями в немецком и французском левом авангарде (зачастую под непосредственным влиянием идей Третьякова, как в случае Беньямина и Брехта), а затем продолжается в такой форме послежития фактографии, как «новая проза» Варлама Шаламова. Павел Арсеньев – поэт и теоретик литературы, главный редактор журнала [Транслит], лауреат премии Андрея Белого (2012). Доктор наук Женевского университета (Docteur ès lettres, 2021), научный сотрудник Гренобльского университета (UMR «Litt&Arts») и стипендиат Collège de France, специалист по материально-технической истории литературы XIX–XX вв.