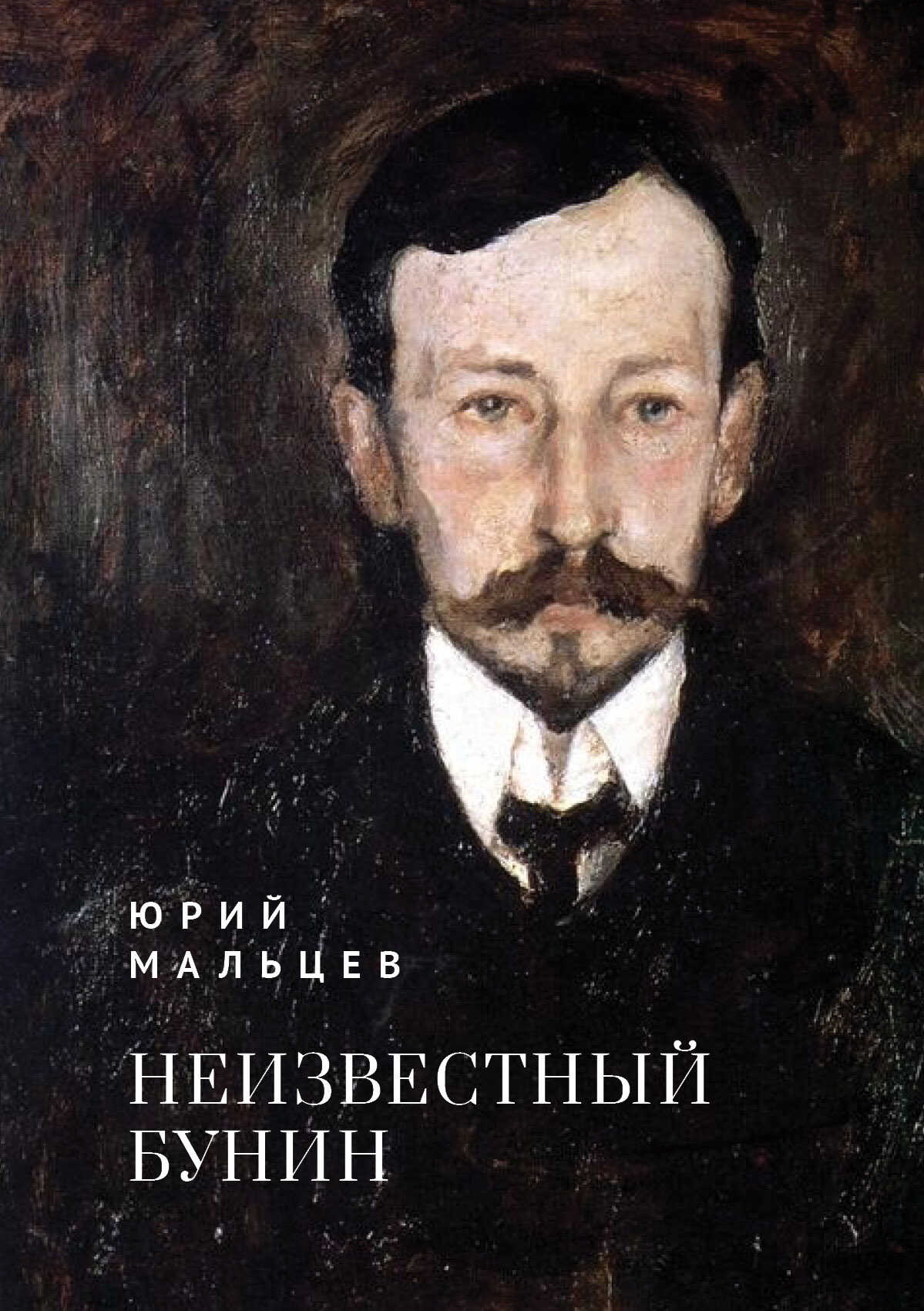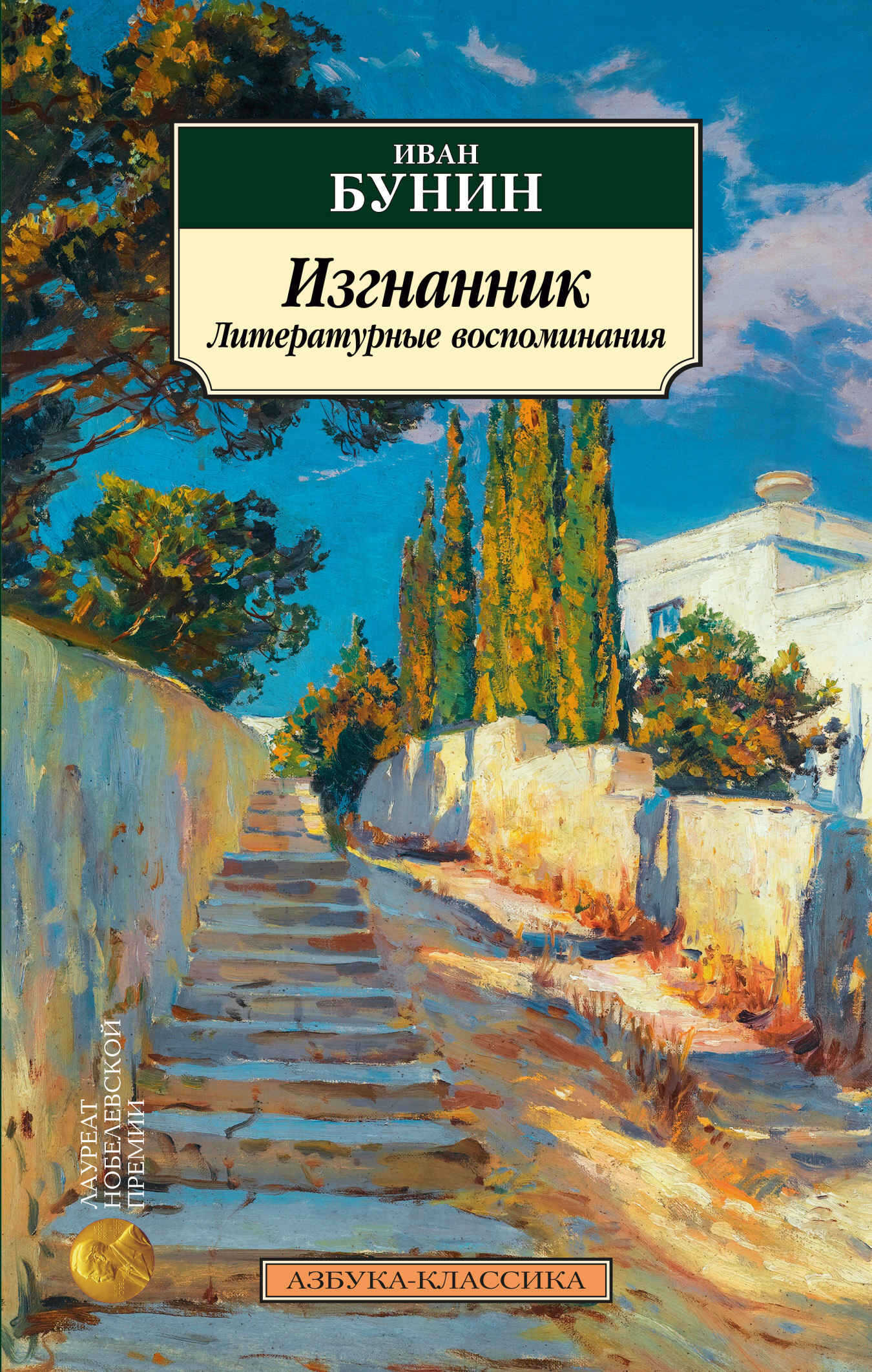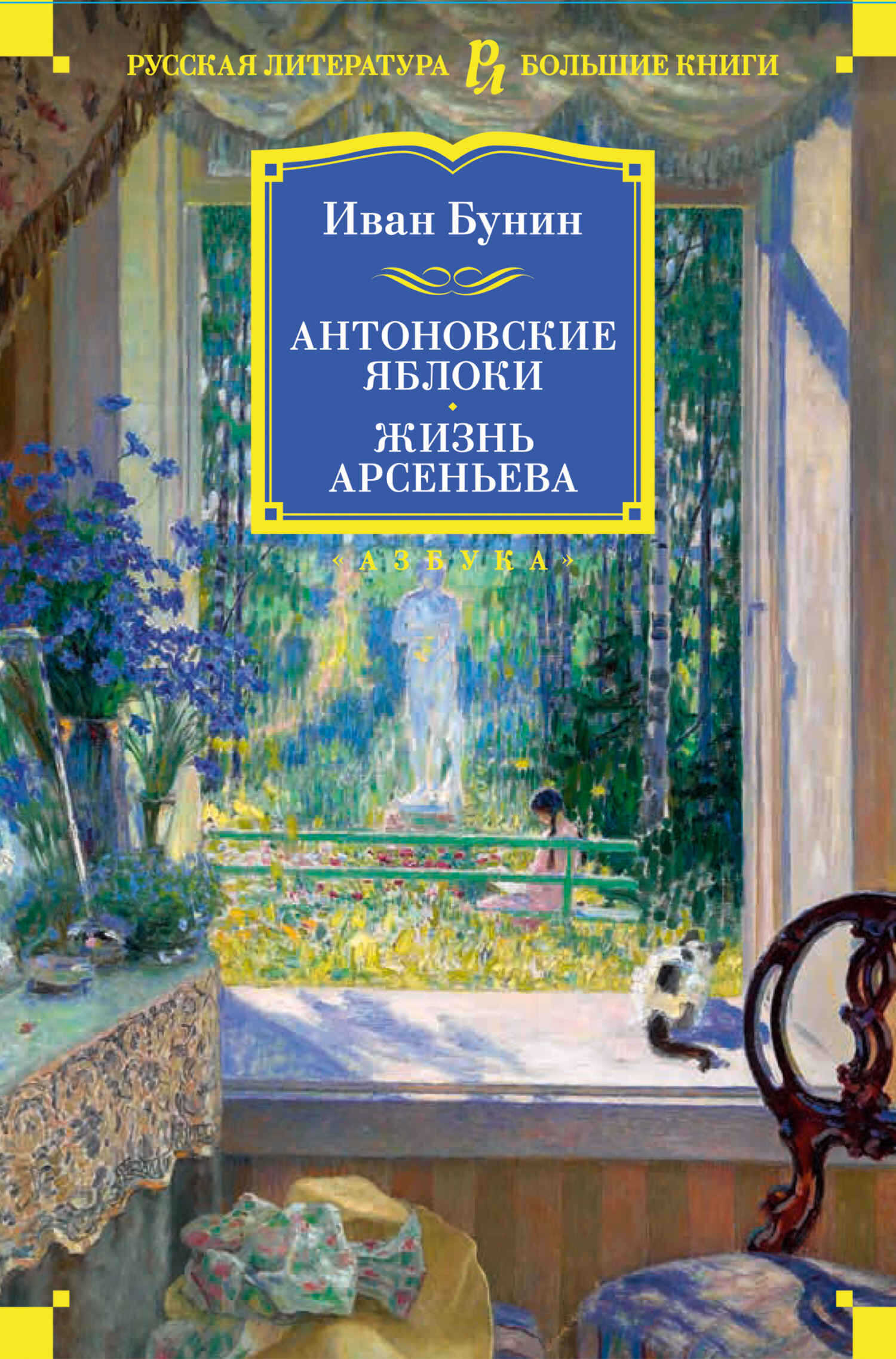Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Впервые переиздается монография выдающегося литературоведа и правозащитника Юрия Мальцева (1932-2017), посвященная Ивану Бунину. Оказавшись в вынужденной эмиграции в 1974 г., Мальцев, после первого своего исследования «Вольная русская литература», в течение многих лет собирал материалы о великом писателе, работая в европейских архивах и библиотеках. Его книга, опубликованная в Италии, в переводе на итальянский, в 1987 г., и изданная затем в оригинале на русском в 1994 г., стала первой научной работой о Бунине, значение которой не умалилось спустя десятилетия.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Владимирович Мальцев»: