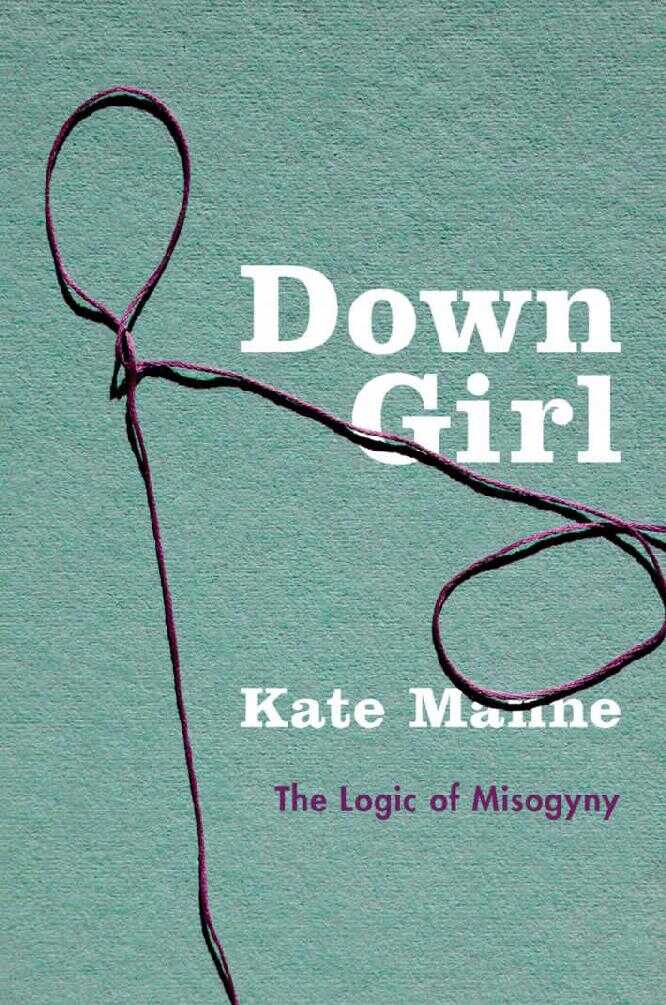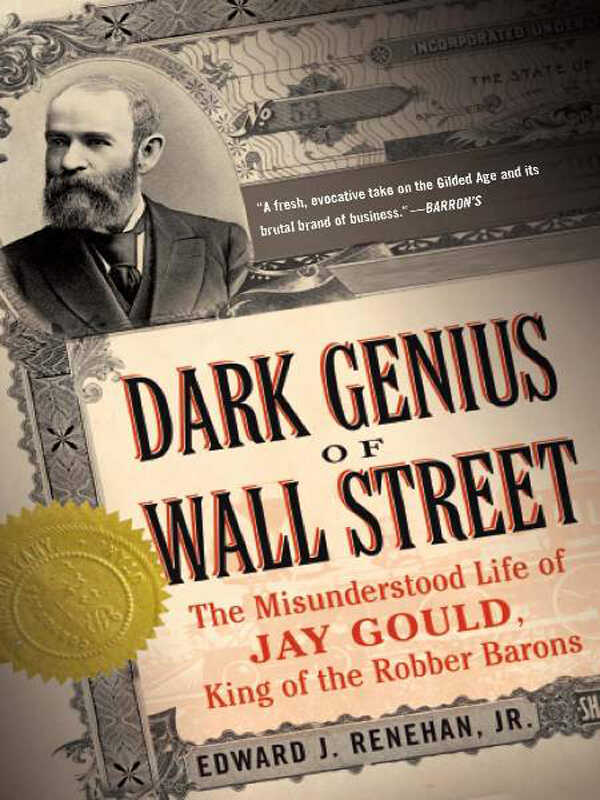Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга вышла 9 октября 2017 года (издательство Oxford University Press)Мизогиния - актуальная тема, но ее часто неправильно понимают. Что же такое женоненавистничество? Кто заслуживает звания женоненавистника? Как женоненавистничество отличается от сексизма и почему оно склонно сохраняться - или усиливаться - даже тогда, когда гендерные роли ослабевают? Эта книга - исследование женоненавистничества в общественной жизни и политике.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Kate Manne»: