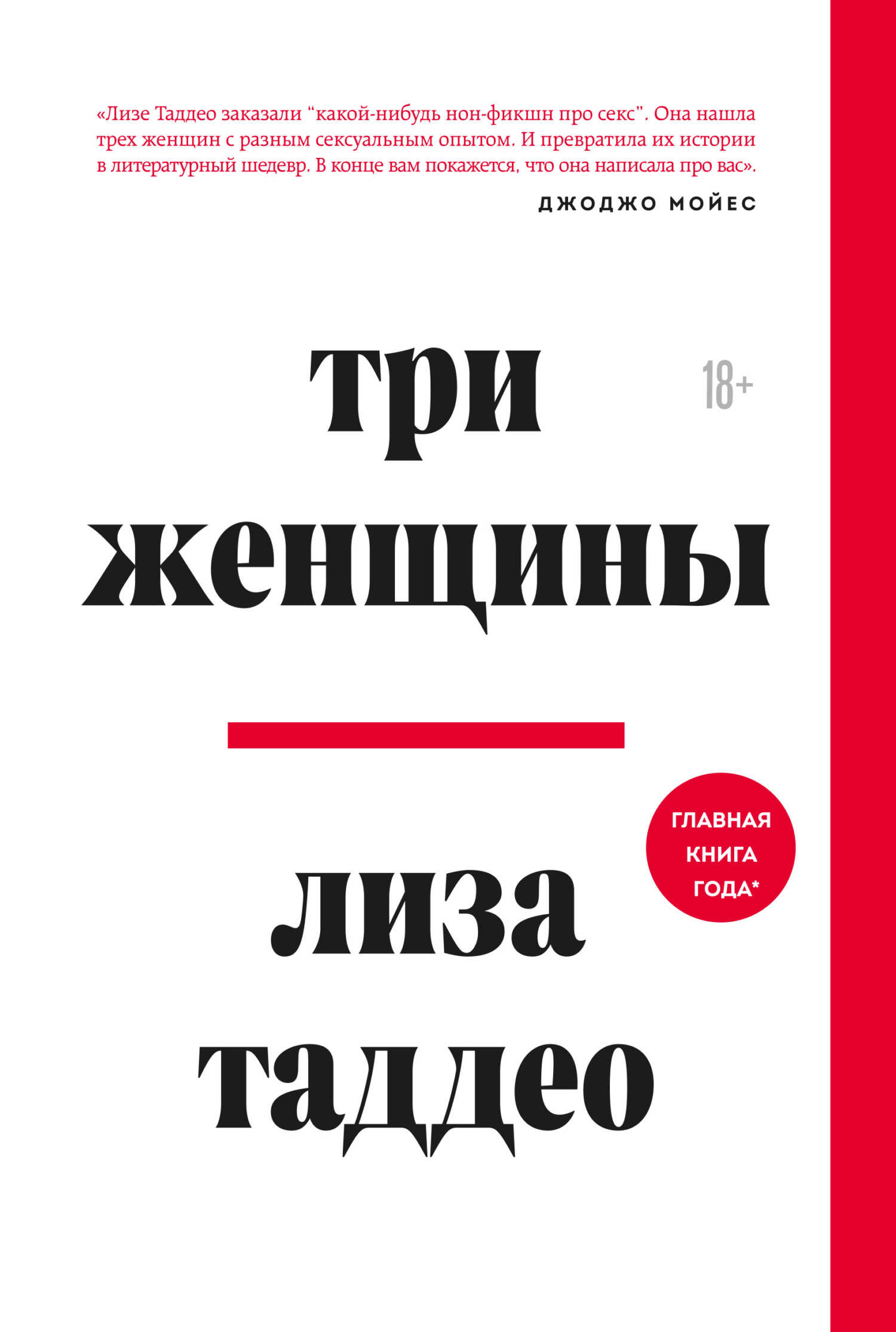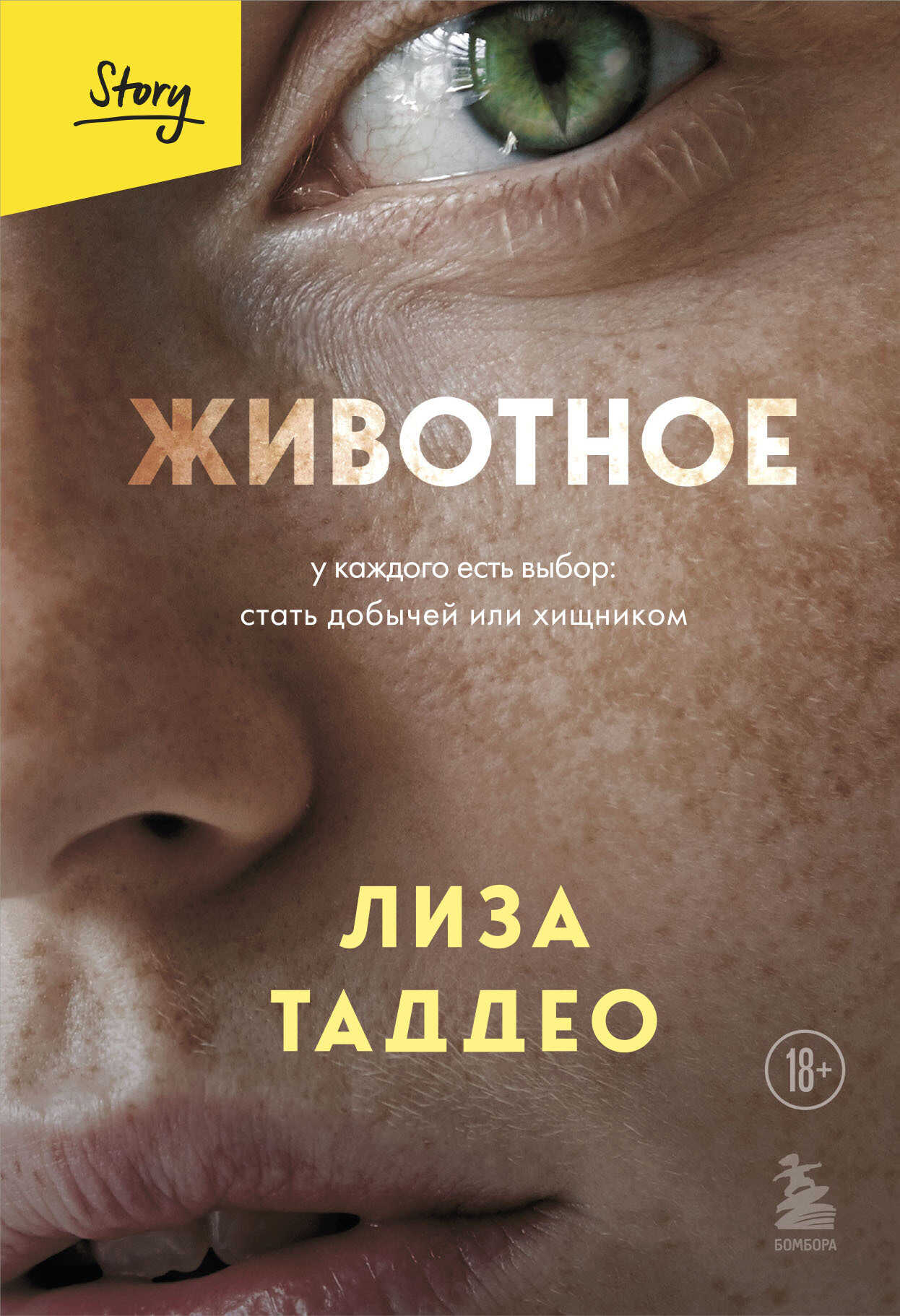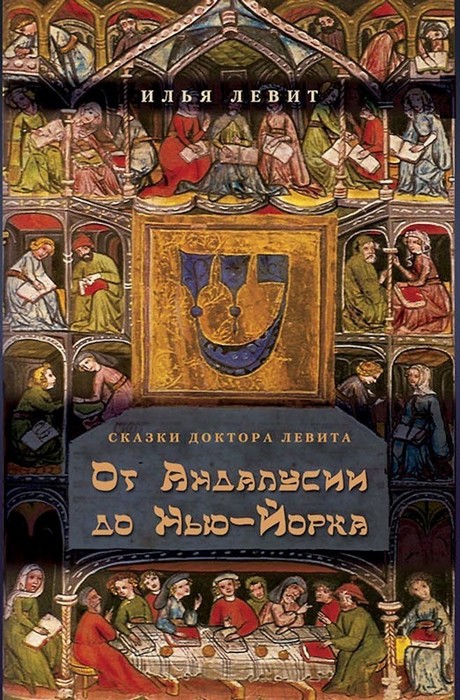Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Джоан всю жизнь терпела безразличие и жестокость мужчин. Когда любовник застрелился у нее на глазах, она сбежала из Нью-Йорка в поисках Элис, единственного человека, который может помочь ей разобраться в своем прошлом, чтобы понять себя настоящую. В душном Лос-Анджелесе Джоан восстанавливает в памяти то ужасное событие, свидетелем которого она стала в детстве. Именно оно преследовало ее всю жизнь. Провокационный роман о женской ярости в ее самом грубом проявлении, а также исследование последствий общества, в котором доминируют мужчины. Таддео пишет так, что это испепеляет и завораживает, иллюстрируя захватывающее превращение одной женщины из добычи в хищника.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Лиза Таддео»: