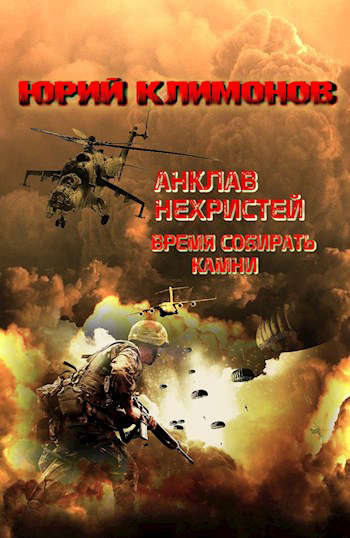Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Опираясь на фактический материал, авторы критикуют религиозно-аскетические идеалы монашества и старчества, вскрывают подлинный смысл христианского понимания «греховной жизни», «нравственного самосовершенствования». Большое внимание в брошюре уделено показу отрицательной роли монашества в общественной и культурной жизни России XIX века.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Кирилл Иванович Никонов»: