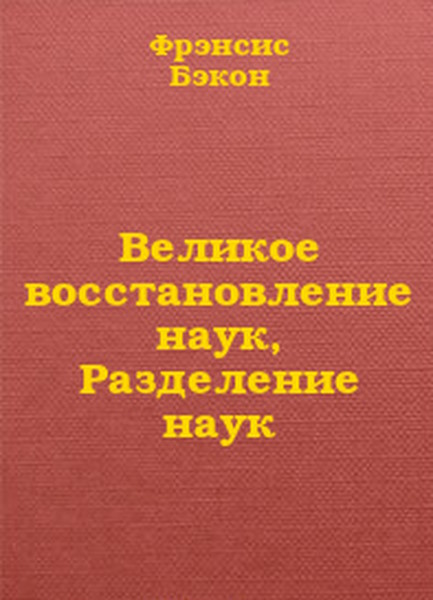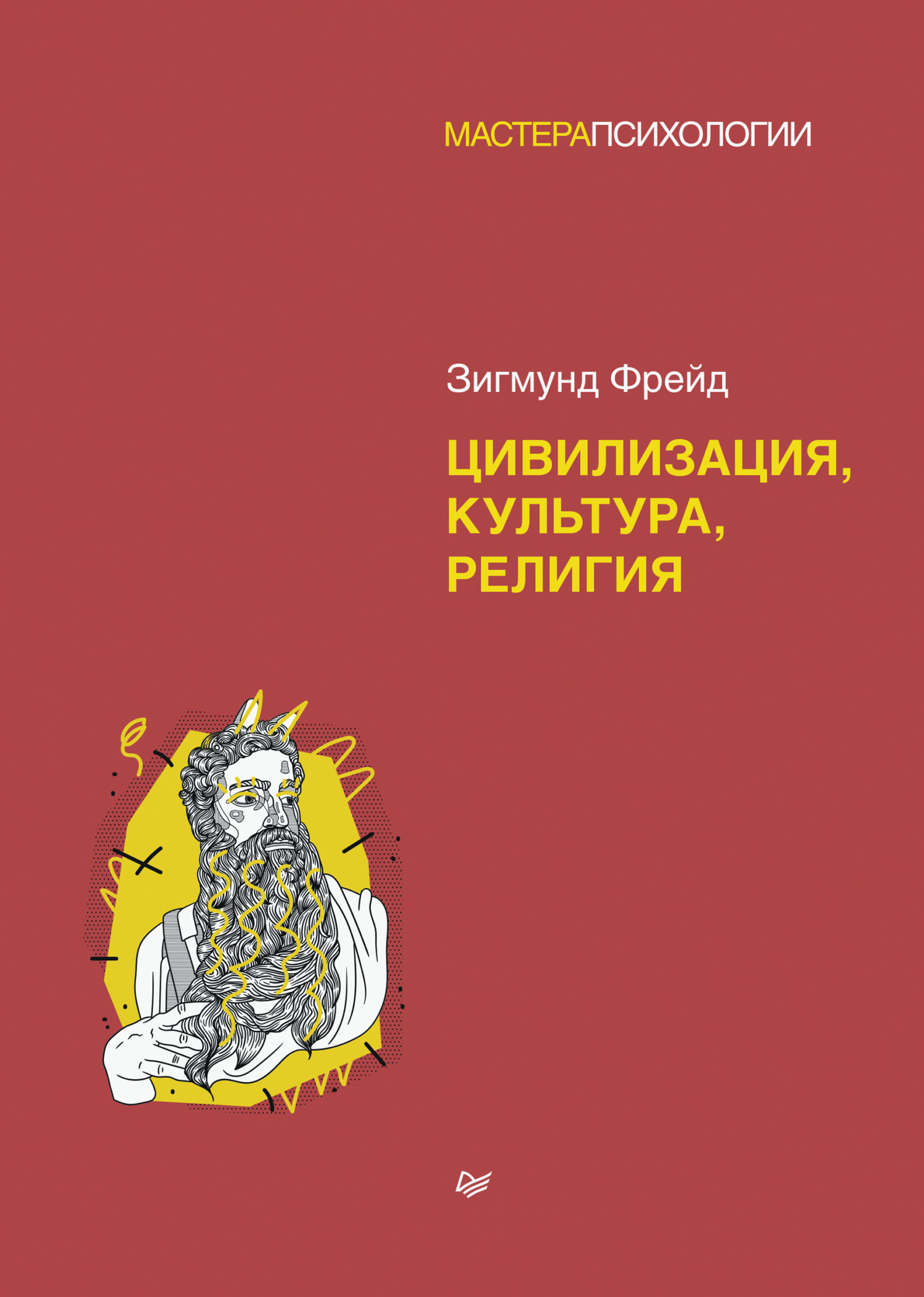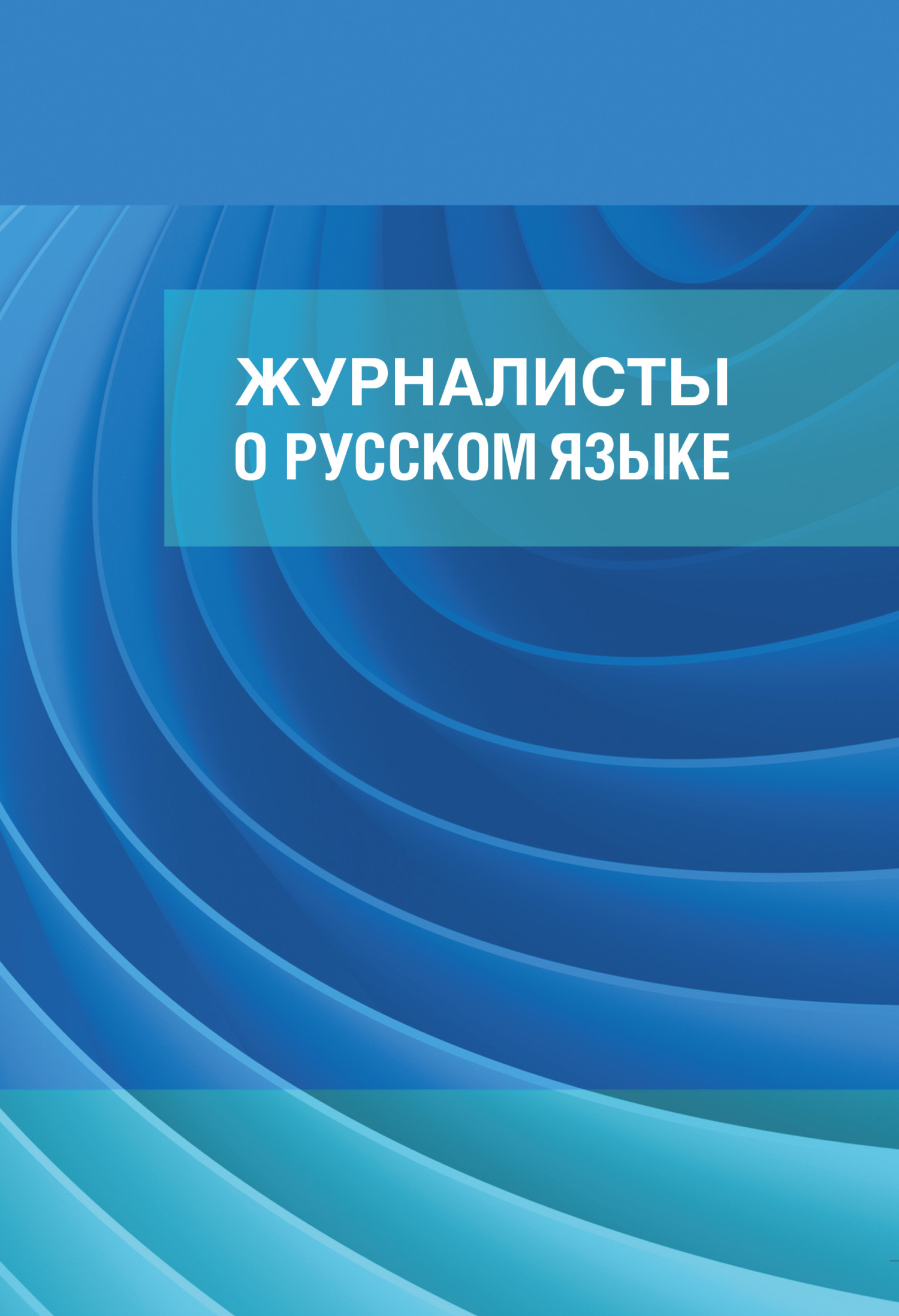Шрифт:
Закладка:
Что, если бы вы могли рассказать свою жизнь с помощью данных? Что, если бы вы могли измерить и анализировать все, что вы делаете, чувствуете и думаете? Что, если бы вы могли создать свою собственную датабиографию?
Это именно то, что сделал Шарли Дельварт, французский писатель и журналист, который решил провести эксперимент над собой. Он начал собирать и обрабатывать данные о своей повседневной жизни: о своем сне, питании, здоровье, работе, друзьях, любви, интересах и многом другом. Он использовал разные инструменты и приложения для отслеживания и визуализации своих данных. Он также стал задавать себе вопросы о том, что эти данные говорят о нем, о его личности, ценностях и целях.
“Датабиография” - необычная и увлекательная книга, которая показывает, как можно применять данные для самопознания и саморазвития. Это также книга о современном мире, в котором мы все становимся дата-субъектами и дата-объектами. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и узнать больше о датабиографии и ее возможностях.