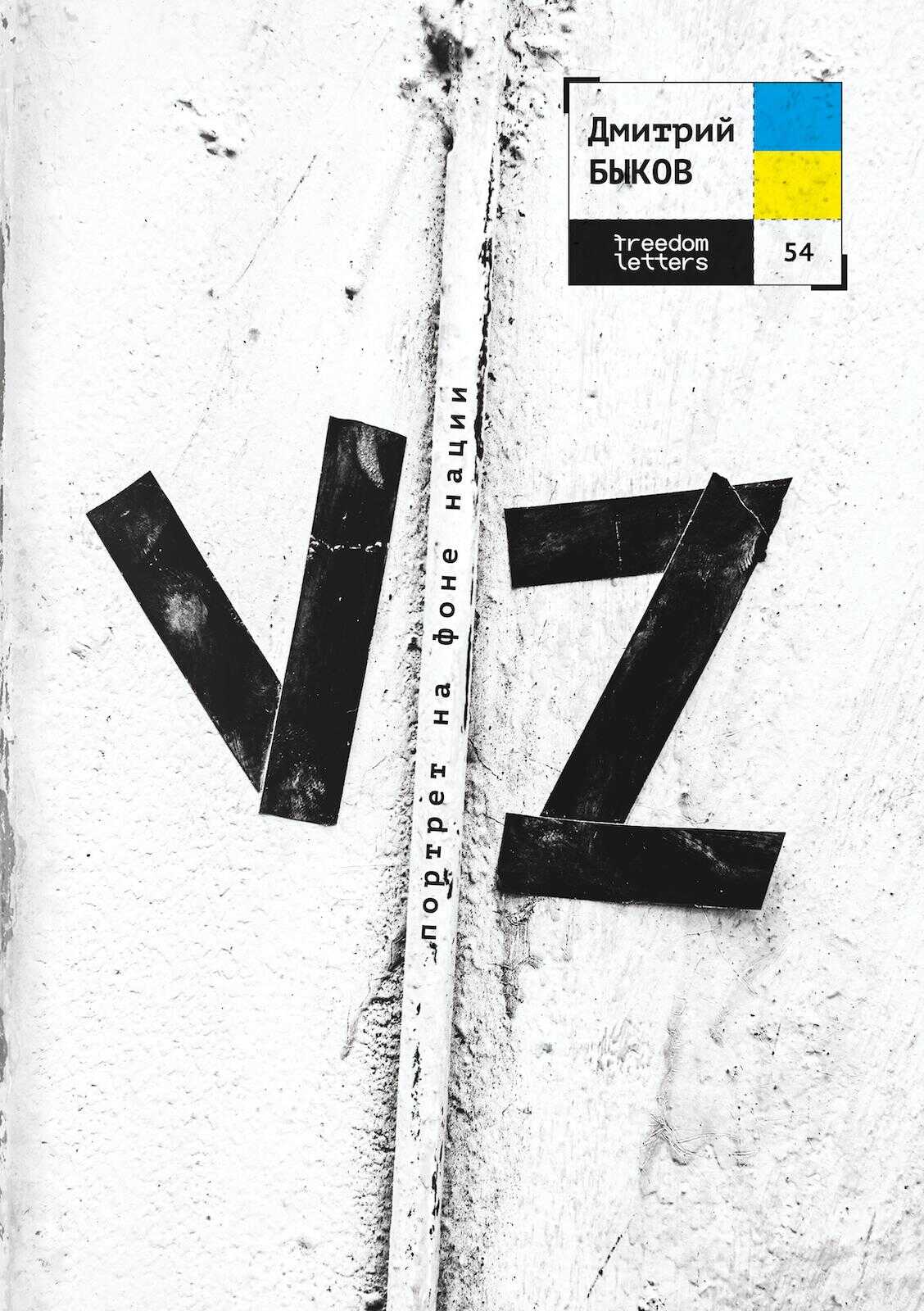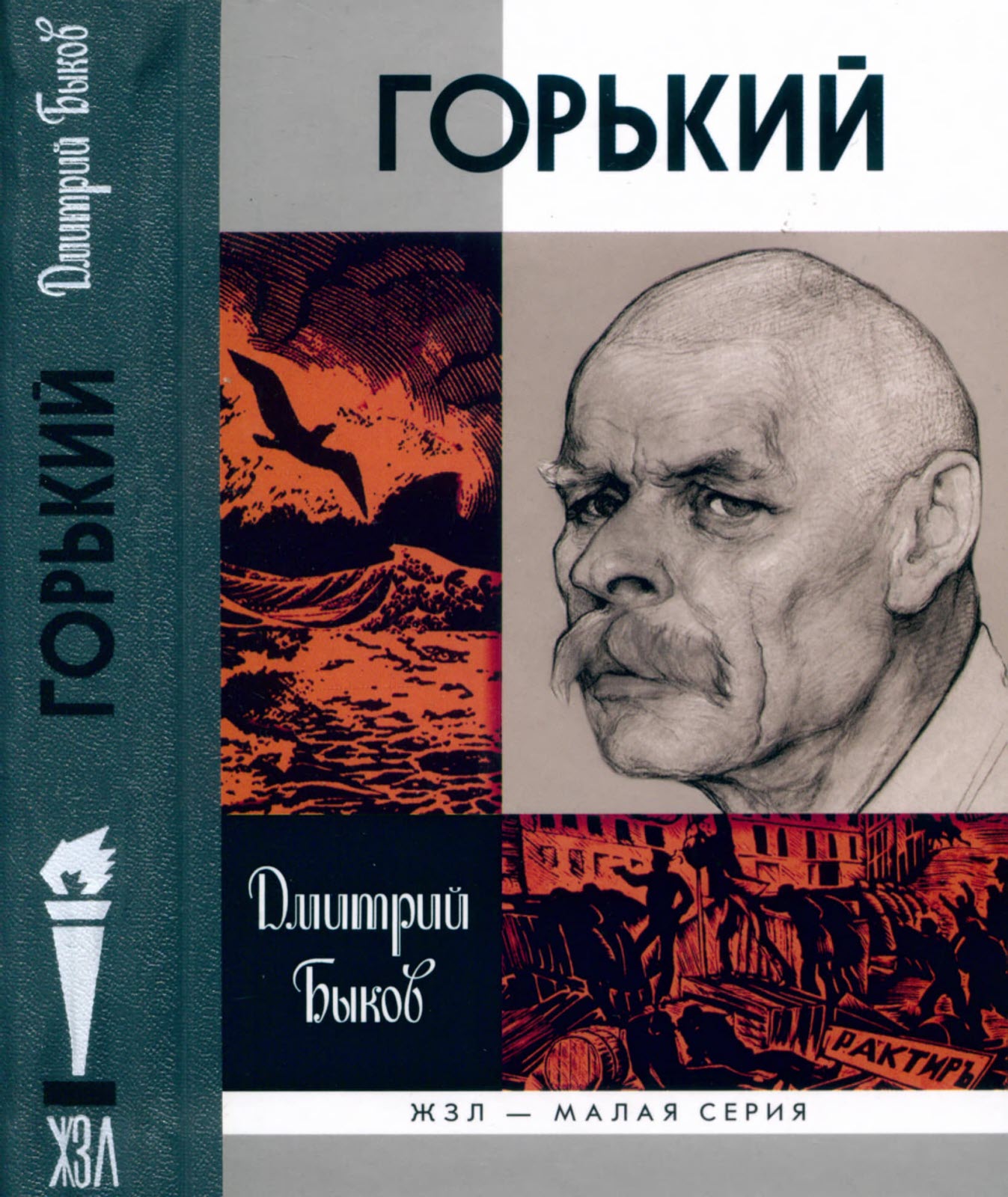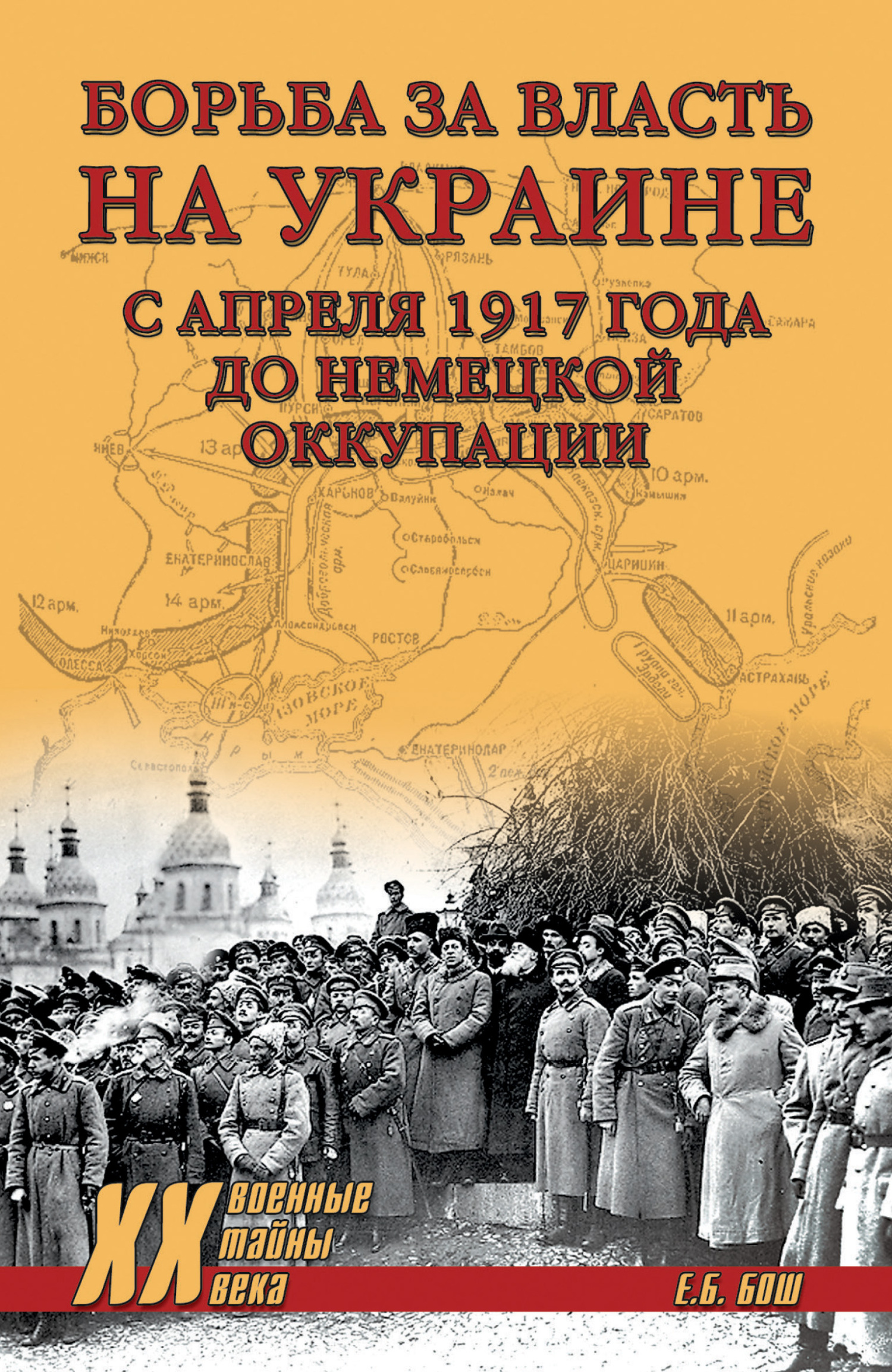Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
VZ Дмитрия Быкова — не биография Владимира Зеленского. И это даже не книга о войне. VZ — особенно её третья часть, «Мистерия» — о, возможно, финальной битве архаики и прогресса. О битве, разворачивающейся на наших глазах и с нашим — хотим мы того или нет — непосредственным участием. VZ — главный герой этой книги. Неожиданно для самого себя направивший XXI век по верному пути. Оказавшийся орудием того самого Абсолюта, в существование которого мир уже почти не верил, развращаясь неразличением добра и зла и мифом о всеобщей коррупции. Герой, защитивший нашу человечность. Впрочем, божественный замысел происходящего ещё до конца не ясен...
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дмитрий Львович Быков»: