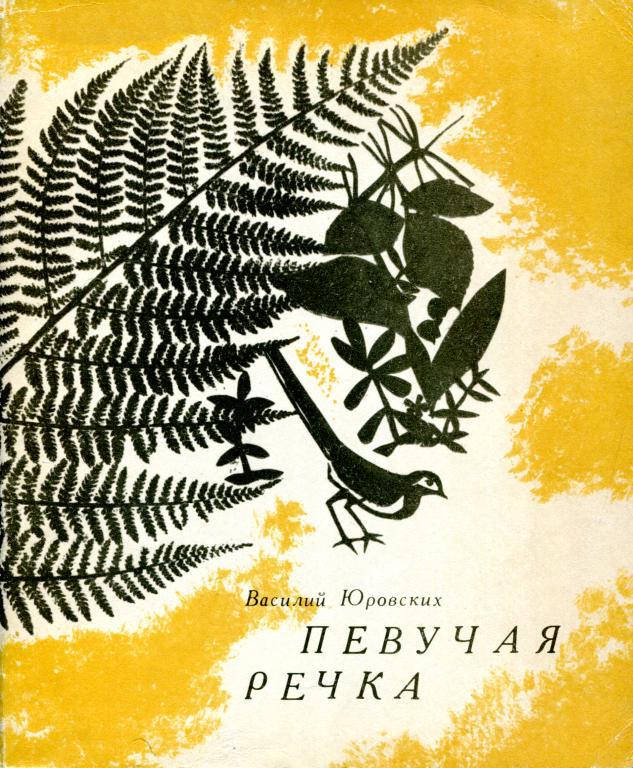Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Они любили друг друга наперекор всему – коммунист и ссыльнопоселенка, якут и немка. Ни тюрьма, ни лагерь не могли сломить их. Эта трагическая история любви читается на одном дыхании и никого не оставит равнодушным.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владислав Иванович Авдеев»:
![Книга жизни [сборник] - Владислав Иванович Авдеев](/uploads/posts/books/16365/16365.jpg)