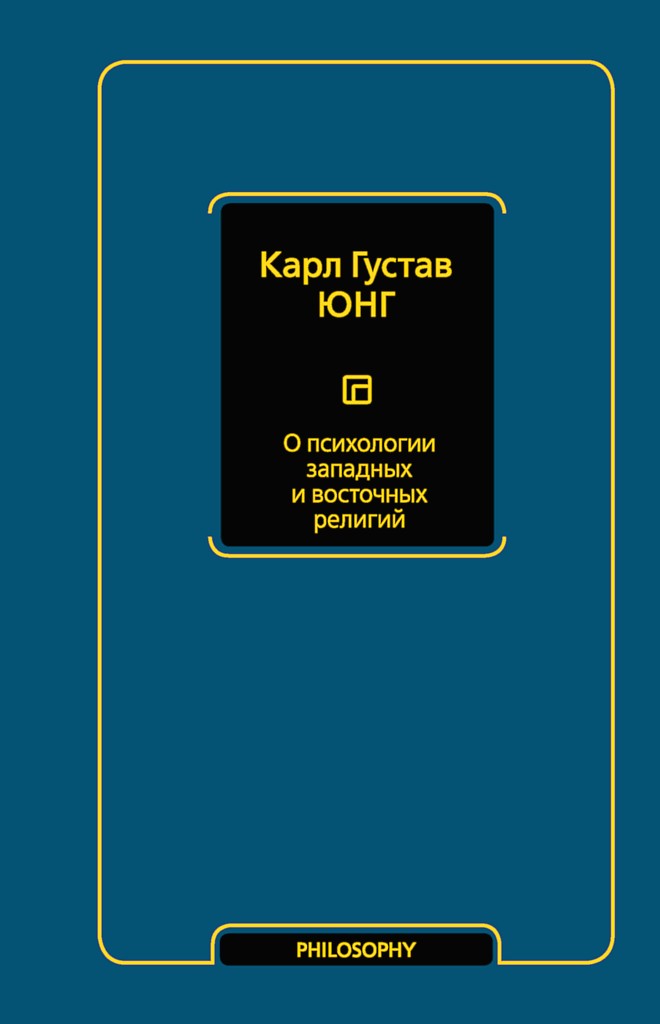Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Религиозная проблематика как одна из базовых констант мировоззрения человека всегда была важной составляющей исследований Юнга. В настоящем сборнике представлены работы, в которых автор исследует бессознательное в религиозной сфере и символику догматов, психологию дохристианского и христианского символизма и психологическую основу Троицы, символическое наполнение идеи Отца, Сына и Святого Духа, психологические аспекты философии различных течений буддизма и индуизма, в том числе на основе Тибетской книги мертвых, различия в понимании идей свободы и святости на Западе и на Востоке и многие другие особенности восточных и западных религий.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Карл Густав Юнг»: