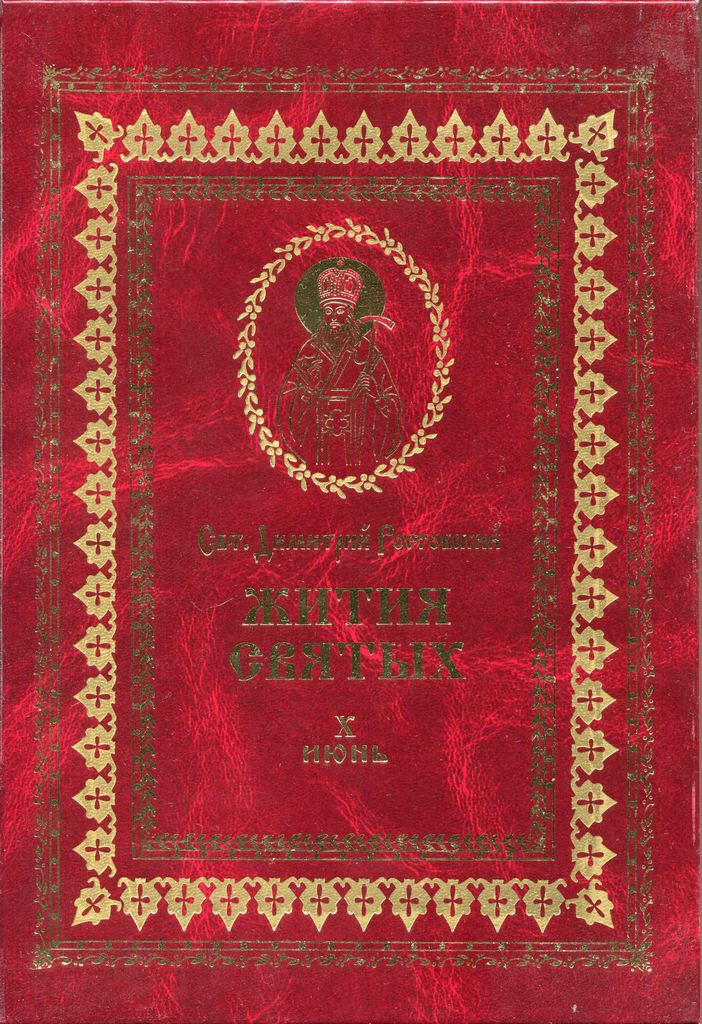Шрифт:
Закладка:
Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896) – известная американская писательница, автор романа «Хижина дяди Тома», книги, которая произвела грандиозный переворот в общественных настроениях, завоевав важное место не только в истории литературы, но и в культурной и политической истории Соединенных Штатов Америки.В настоящее издание вошел религиозно-исторический роман «Агнесса из Сорренто», изданный спустя десять лет после «Хижины дяди Тома». Действие романа происходит в солнечной Италии в конце XV века, во времена правления печально известного папы Александра Шестого. Прекрасная юная Агнесса мечтает посвятить себя служению Богу, уйдя в монастырь. Однако ее красота привлекает настойчивое внимание мужчин, среди которых – молодой предводитель разбойников, отлученный от церкви, и суровый настоятель монастыря…