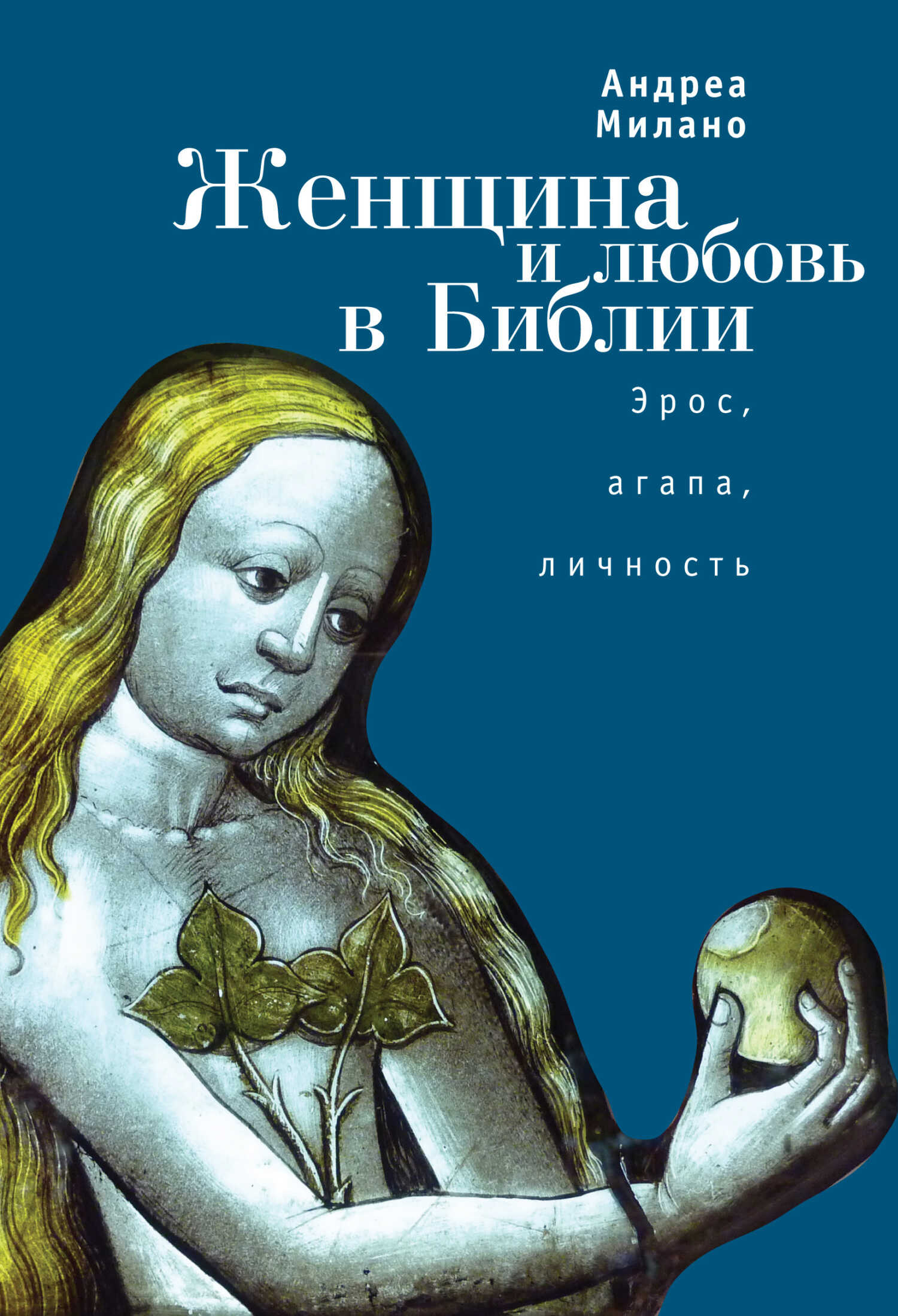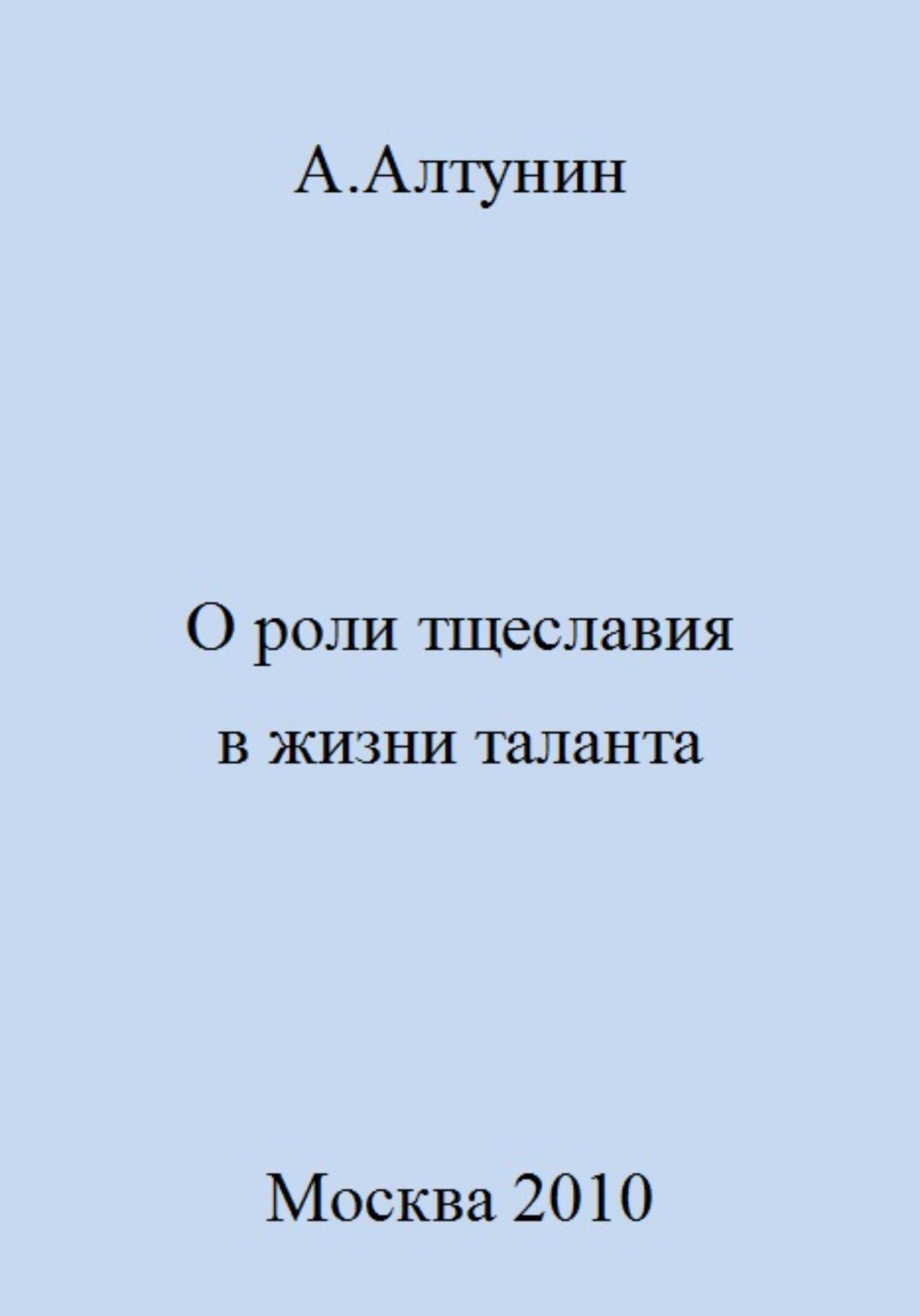Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Автор книги, профессор Неаполитанского университета, теолог и священник, подготовил фундаментальный ответ на вызов современных феминисток, утверждающих, что Библия в течении долгих веков способствовала закабалению женщины. Детально реконструировано действительное положение женщины – от ветхозаветных персонажей до Девы Марии, как в Священном Писании, так и Предании, а также проанализировано с философских и богословских позиций само понятие «любовь» и судьба двух его ипостасей – «агапы» и «эроса».В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андреа Милано»: