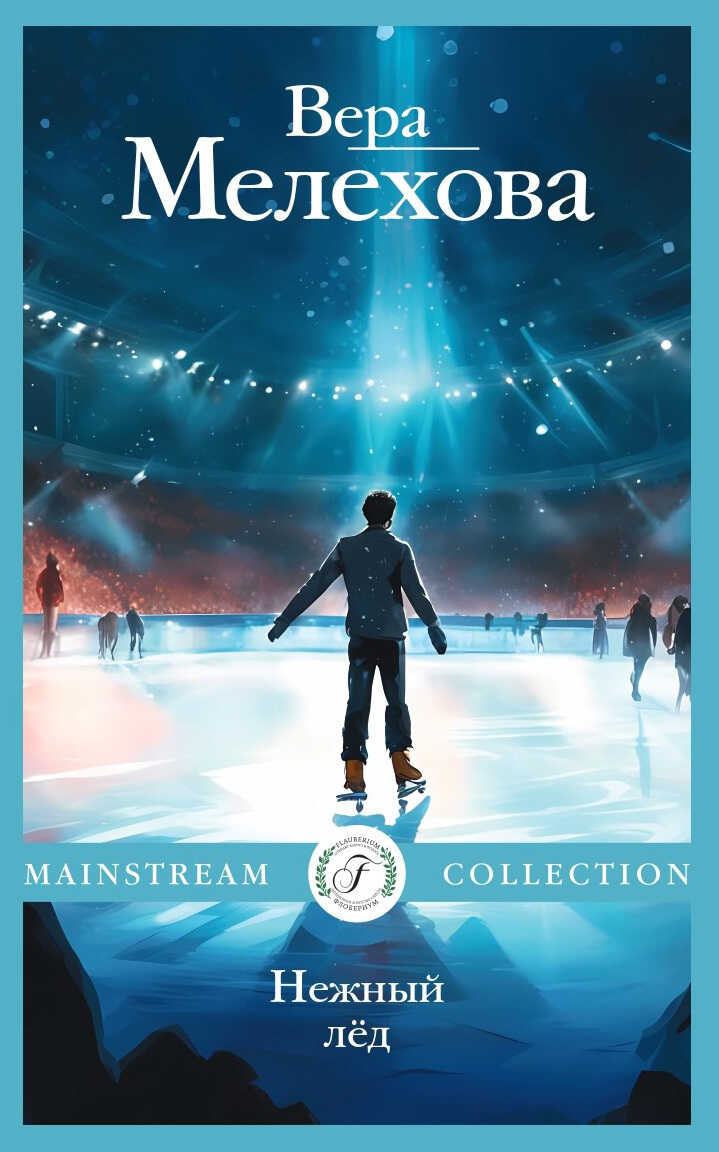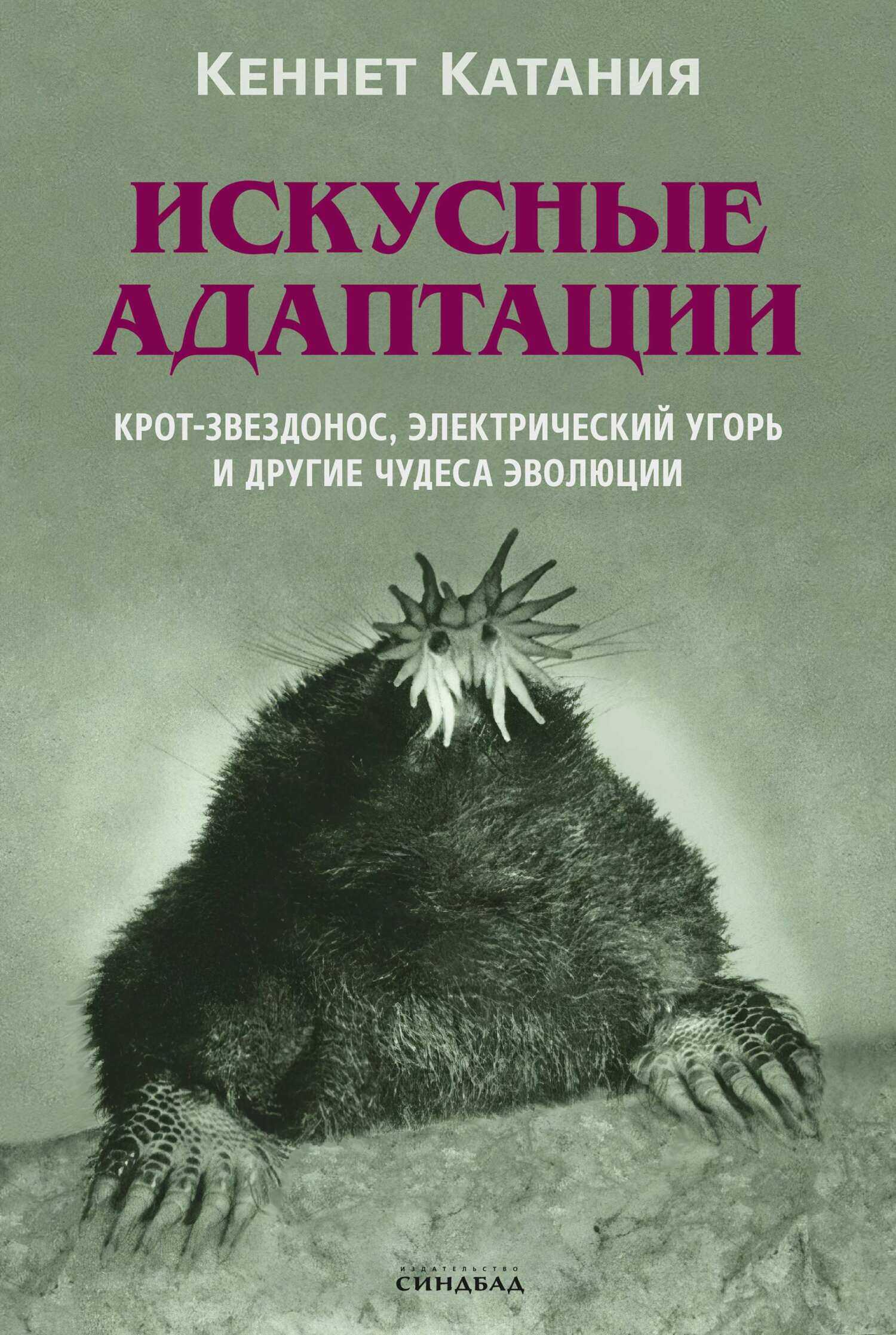Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Лёд – это всего лишь замороженная вода. А если заморозить слезы, какой получится лед? А если кровь? А если… Что надо заморозить, чтобы лёд получился нежным? Майкл Чайка на льду с детства. По воле матери он – фигурист. Майкл точно знает: лёд способен и вознести, и низвергнуть – всё зависит лишь от тебя самого. Но Майкл не знает ни о волшебной лонже, что приготовила ему судьба, ни о самом себе…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Вера Мелехова»: