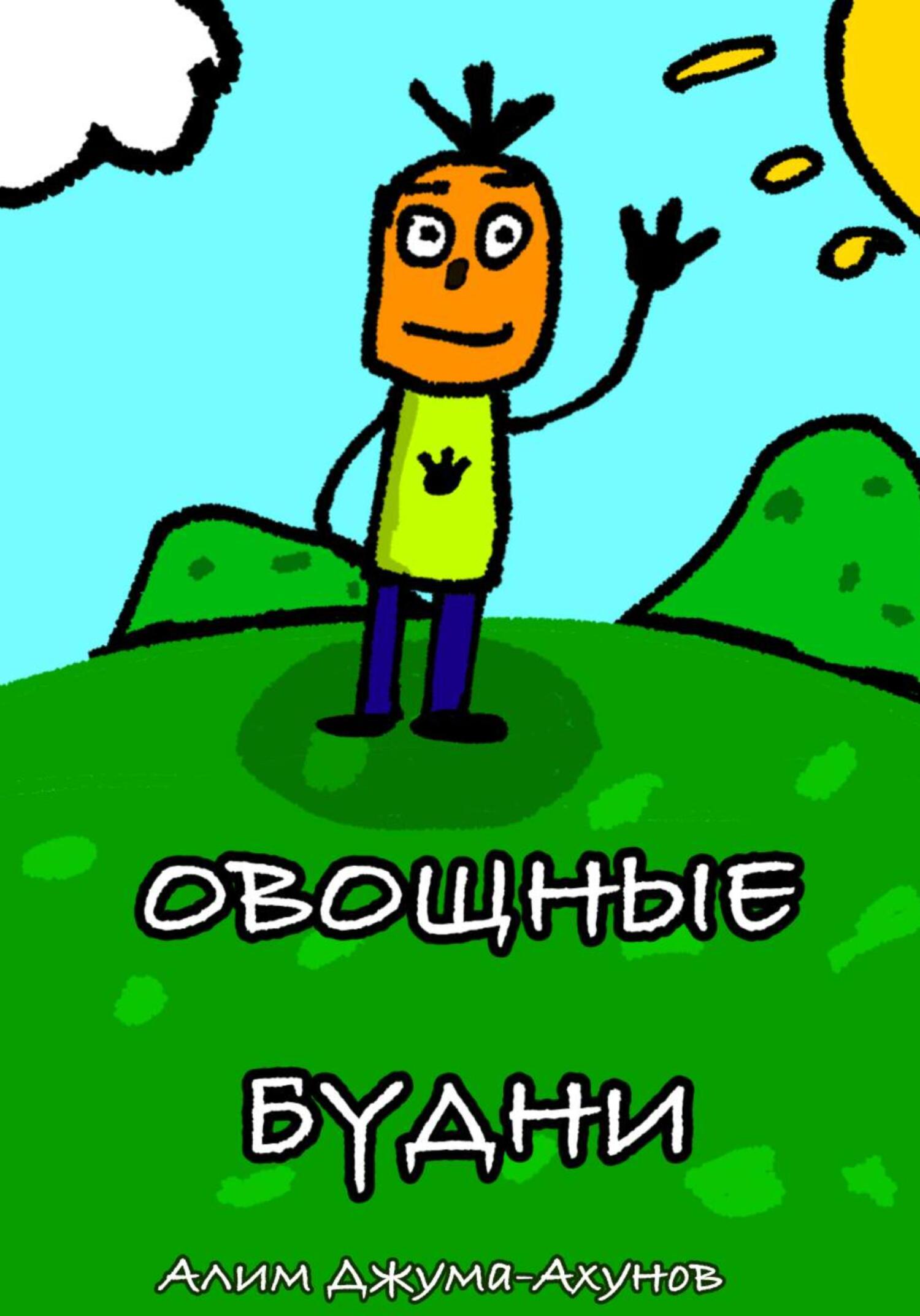Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Продолжение. Вторая книга из цикла "Хрен знат".
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Анатольевич Борисов»: