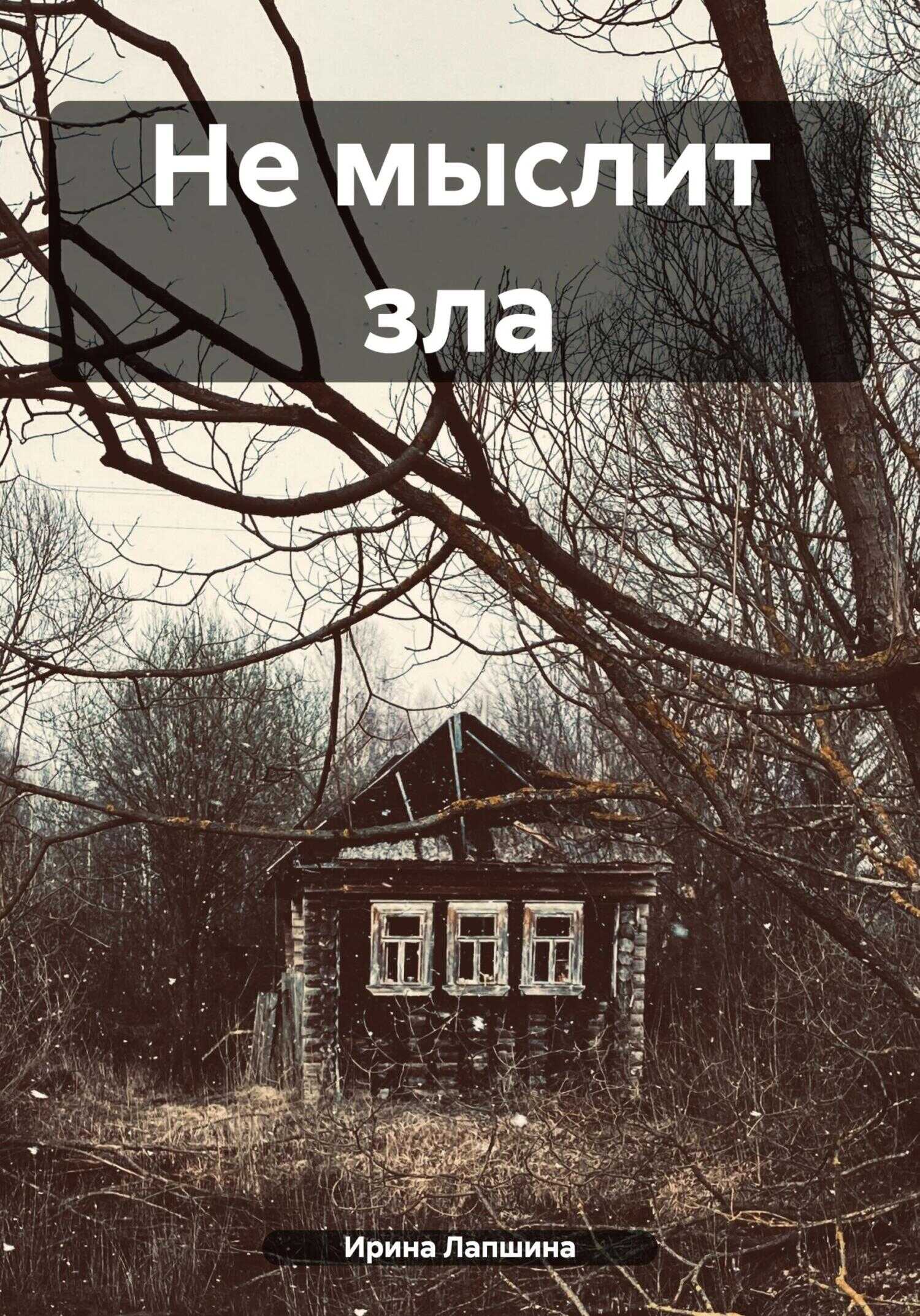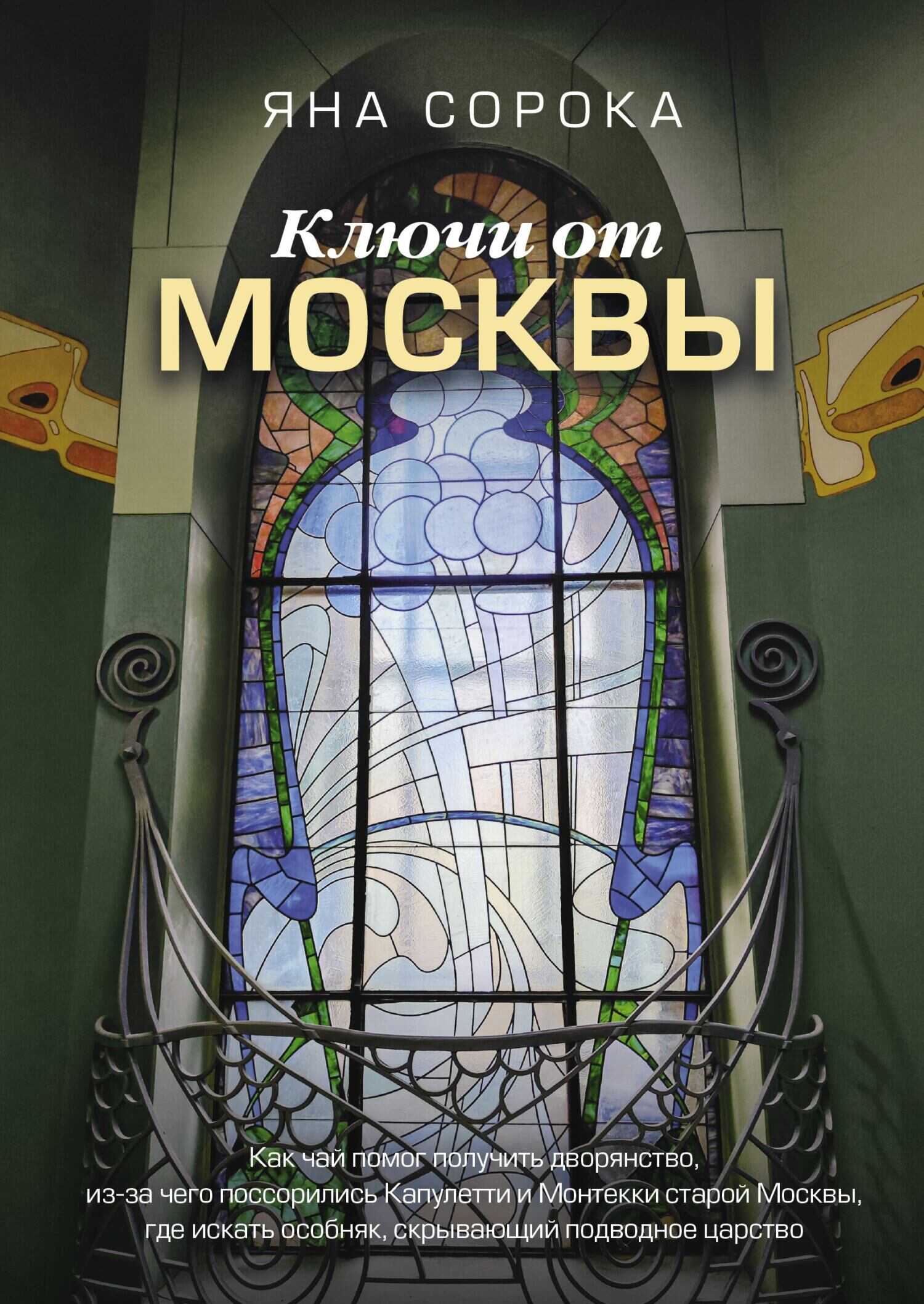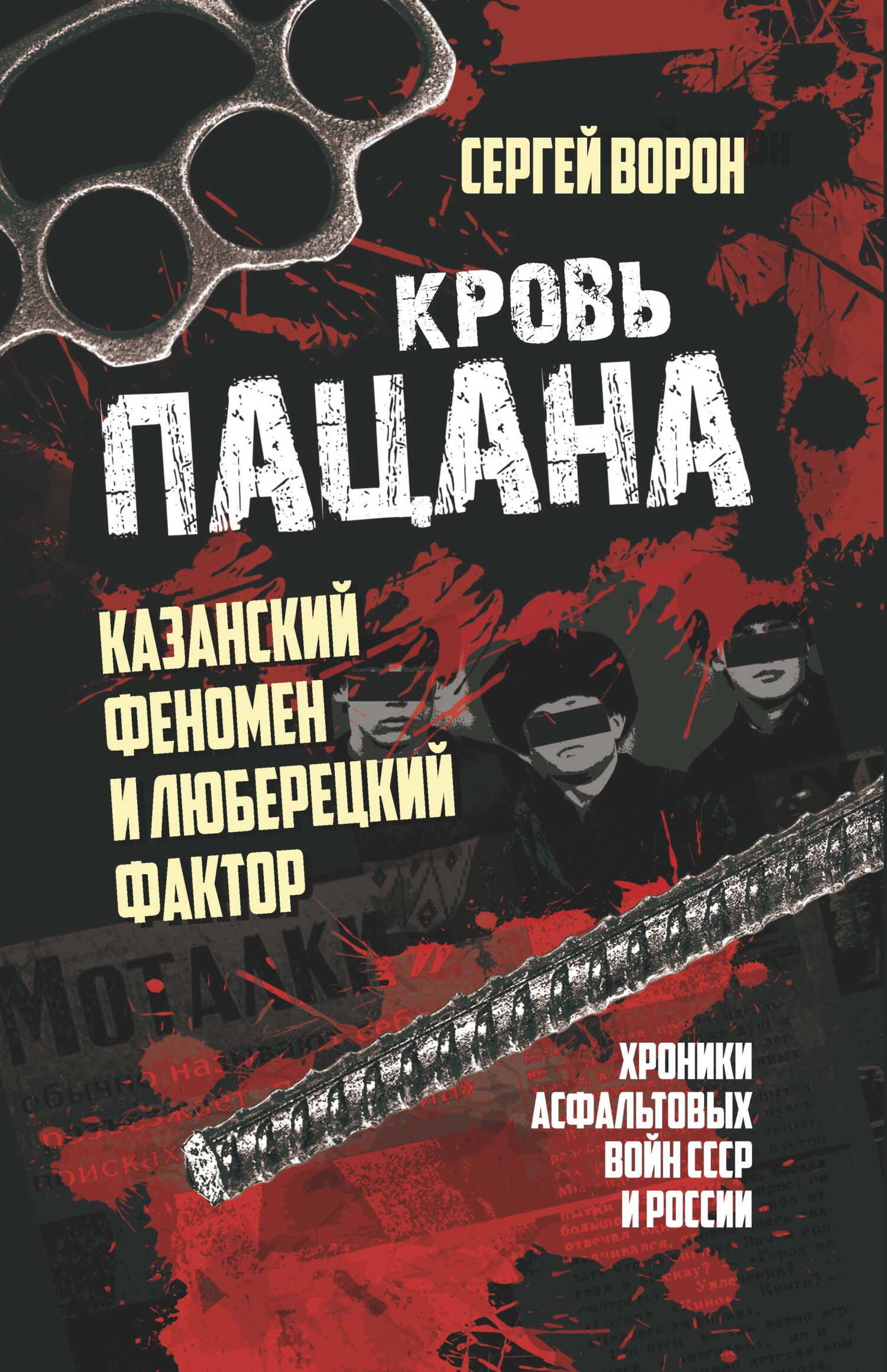Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
— Ну и куда она опять влезла? — вопрошала разгневанная Милослава у свёкра, как раз в тот момент, когда Дуняшка вышла во двор. — Что значит «поедет в Новгород»? Неужто Кошкиной больше некого взять с собой? Зачем им вообще туда ехать?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юлия Викторовна Меллер»: