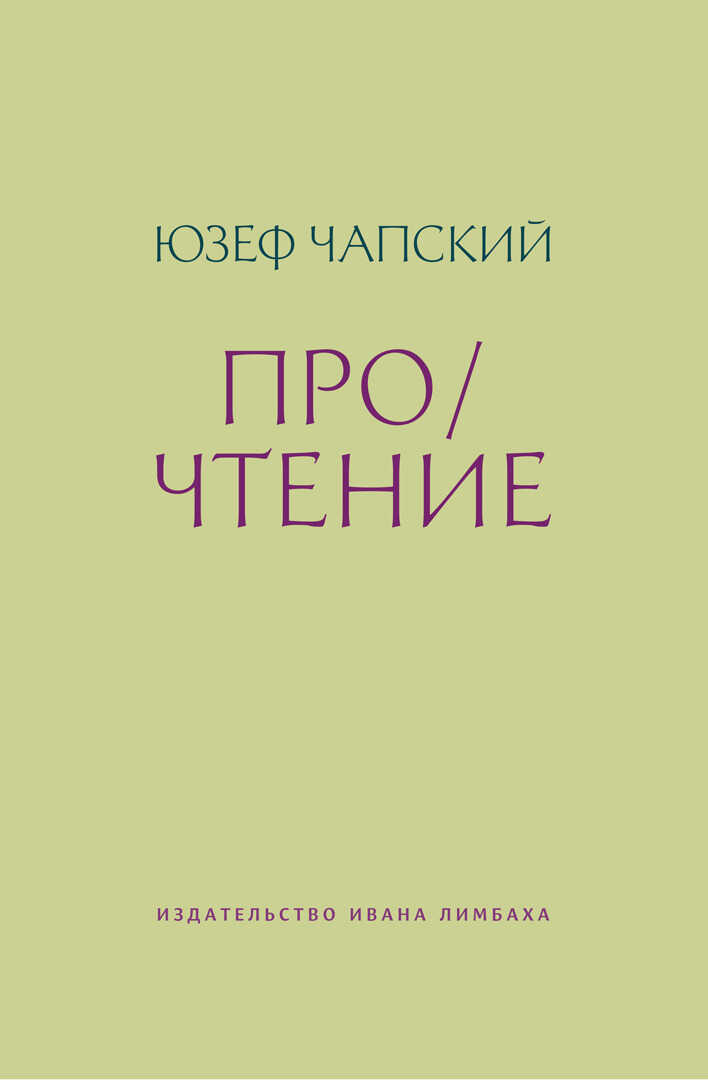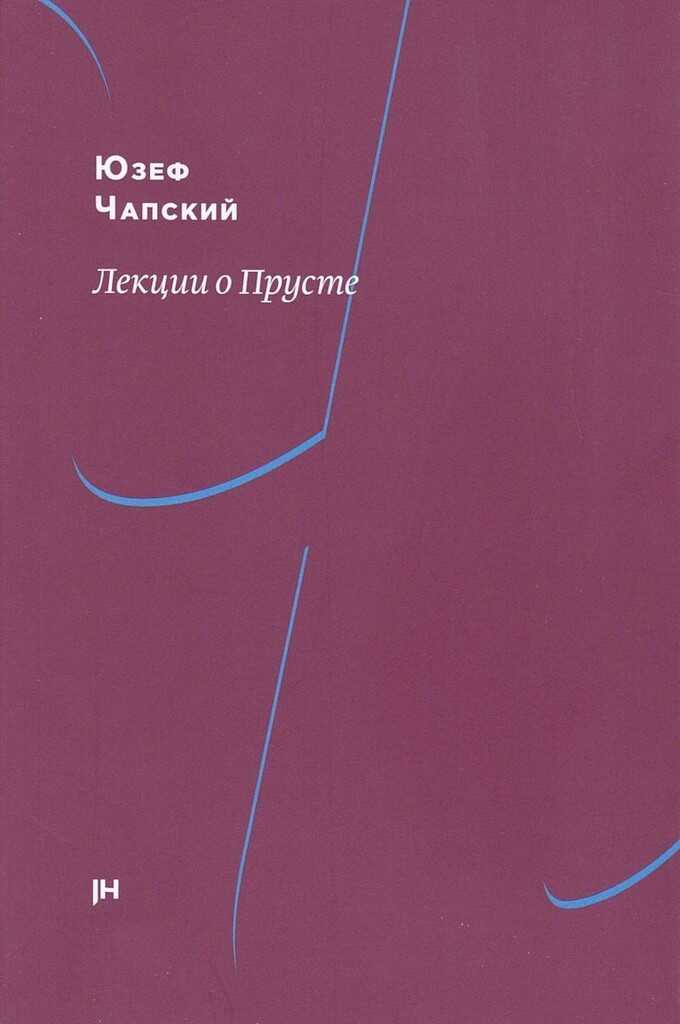Шрифт:
Закладка:
Розанову сегодня нигде не нашлось бы места. Каждый захотел бы его по-своему исказить, по-своему испортить те или иные страницы, так что, возможно, лучше его не трогать, говорил мне еще перед войной Философов, один из его близких друзей и яростных оппонентов. На этом фоне его избранное, опубликованное недавно в Америке (Изд-во имени Чехова, 1956), — великое событие для литературы, попытка воскрешения Розанова.
Если я решаюсь отдать в печать эти старые и ужасно фрагментарные, уже пожелтевшие страницы о Розанове, то только в надежде, что они заставят кого-то заинтересоваться этим писателем. Главы, написанные о нем двадцать четыре года назад, были попыткой отдать долг автору, с которым я с 1919 года почти не расставался.
* * *Я открыл для себя Розанова в 1919 году в Петербурге. В конце 1918 — начале 1919 года я провел в этом городе последние несколько месяцев. Сидя с поддельными документами, я ждал возможности вернуться в Польшу. В ту пору на меня оказывала неодолимое влияние философия Толстого последнего периода его жизни. В эпоху «взрыва» Польши, революционной бури в России я глубоко верил, что возрождение мира может произойти только через буквальное приложение евангельских текстов в понимании и трактовке Толстого, через подставление щек и совершенно бескомпромиссное непротивление злу каким-либо насилием. Все, что меня окружало, я ощущал как какое-то «несущественное» недоразумение. Я был совершенным невеждой, а значит, благодатной почвой для философии Толстого, одноплановой, морализаторской, такой простой, что даже примитивной, лишенной чувства смысла истории и по-буддийски отвернувшейся от мысли, что участие в этой истории может быть не одним только преступлением жестоких или глупых людей. Я и сам тогда уже давился этой философией, которая в такие времена, как те, в ста процентах случаев обрекала на бездействие. Я искал выход из этой интеллектуальной конструкции, которая казалась мне непреодолимой.
Я бродил по тому Петербургу, «самому умышленному из городов», охваченному революционным террором, среди людей, страдающих от голода. Помню, как, стоя ночью на Неве, недалеко от памятника Петру Великому и классических белых колонн Сената, увидел старого бородатого извозчика. Съезжая с моста, он погонял с козел ветхой разбитой пролетки несчастную лошадь — кости да кожа. Лошадь едва волочила ноги. Я не выдержал и спросил извозчика, как можно ездить на такой лошади, ведь она того и гляди сдохнет. Извозчик медленно повернулся в мою сторону, и я увидел, что он и сам тощий, как скелет, и только глаза его странно сверкали на иссохшем лице из-под козырька шапки. Он посмотрел на меня сверху вниз и сказал спокойно и высокомерно, при этом как будто почти равнодушно: «Все мы помрем».
В другой раз в те дни я шел темным вечером по Сергиевской. Была теплая тихая оттепель, легкий снег порошил и блестел под фонарем. Я зашел в один из домов и совершенно случайно увидел табличку на двери: «Дмитрий Мережковский». Я постучал. Я не знал о нем ничего, но в детстве читал его «Леонардо», а за пару месяцев до этого мне в руки попала книга Бердяева, где он с величайшей благодарностью отзывался о помощи, оказанной ему Мережковским, его женой, известной русской поэтессой Зинаидой Гиппиус, и Дмитрием Философовым. Все трое жили тогда вместе на Сергиевской. Мережковский был уже всемирно известным писателем, Гиппиус прекрасной поэтессой эпохи символизма. Что касается Философова, он был вместе с Дягилевым в 1890-е годы создателем целого литературного и вообще художественного движения в России, сложившегося вокруг журнала «Мир искусства»— он был его основателем. В 1900-е годы Философов вместе с Мережковским отходят от группы Дягилева и вместе с Карташовым, Розановым и еще несколькими основывают Религиозно-философское общество, пытаясь вовлечь и православное духовенство в дискуссию о вопросах религии и общественной роли православной церкви. У основателей Общества были большие планы; в основном связанные с революционными течениями, на них они возлагали главные надежды.
Преследуемые цензурой и тогдашним диктатором по религиозным вопросам Победоносцевым, они неустанно идеологически боролись с самодержавием, но также и с ортодоксальным материализмом русских революционных кругов. Участники религиозно-философских собраний мечтали о реформе Православной церкви, выступали за свободу вероисповедания, защищали русские секты. Там было заметно влияние религиозной мысли и Достоевского, и Соловьева, но и Бергсона, Блонделя. Некоторые из основателей общества даже имели непосредственные контакты с французскими модернистами, такими как ксендз Лабертонньер.
Во всей этой компании Розанов был типичным enfant terrible. Автор, наверное, самых интересных докладов, самых глубоких статей, публиковавшихся в журнале «Новый путь», он был исключен из Общества за бредовые антисемитские статьи во время процесса Бейлиса.
Когда я постучал в дверь Мережковского, весь тот мир, о котором я упомянул, был мне совершенно неизвестен. Толстой с его «непротивлением» застрял у меня в голове клином. Мережковский принял меня в холодной столовой (не было угля) в каком-то бархатном плаще своей жены, с меховым воротником и широкими рукавами. Он выглядел как служитель культа неизвестной религии. Я сам был много недель небрит, в какой-то заляпанной жиром одежде. Прямо с порога начал спрашивать его о тезисах Толстого. Мережковский присел на стол и моментально начал со мной дискутировать. У него были большие светлые детские глаза, и когда он загорался, все его лицо, уже потрепанное, преображалось, он молодел. Мы проговорили часа два. С тех пор я бывал у них много раз до отъезда из Петербурга. Они открыли мне целый мир. Мережковскому я обязан совершенно новым для меня отношением к истории, к католицизму, вообще многосторонним подходом к проблемам, более чутким, с исторической перспективой. Он велел мне читать Достоевского, Ницше, Карлейля и Розанова.
Никогда больше я не переживал периода такого интенсивного роста. Я ждал несколько недель возможности выехать в Польшу, ждал какие-нибудь документы. Половина Польской ликвидационной комиссии, единственного польского представительства в тогдашнем Петрограде, была арестована. Я почти не выходил из своей комнаты, но помню, что даже поход в столовую, чтобы что-то поесть, был для меня мучением.
Сейчас я не могу читать Мережковского, меня раздражает его необязательность, фантазирование, использова-ние метафор в качестве аргументов в его книгах, которые я брал в руки спустя годы. Правда, уже давно я