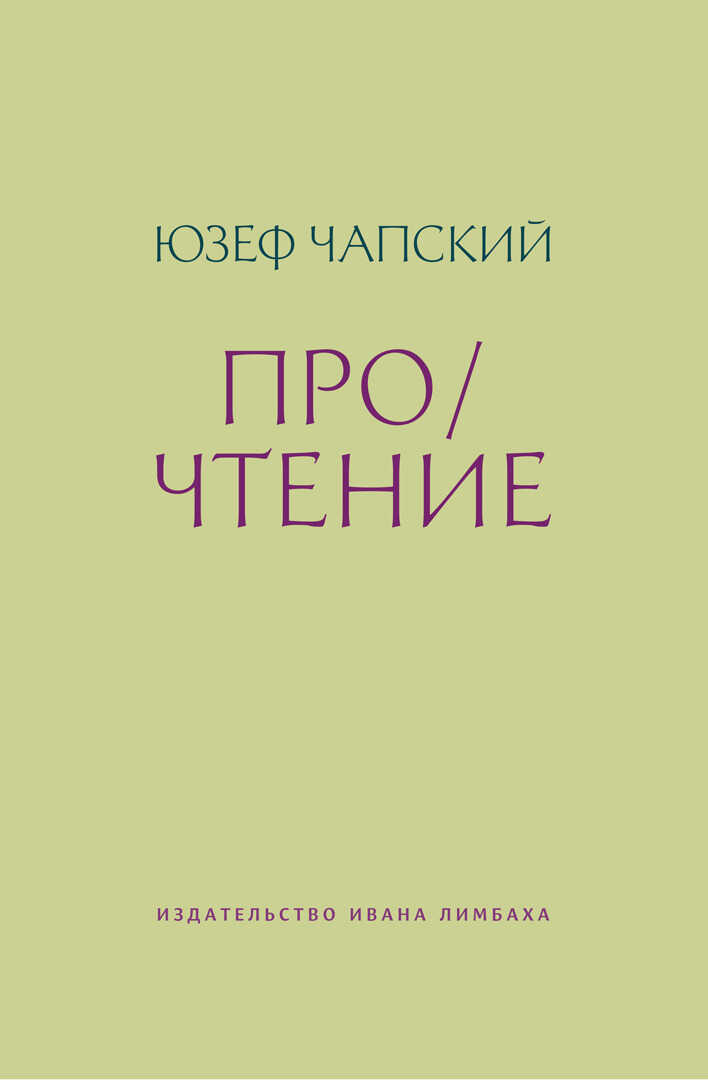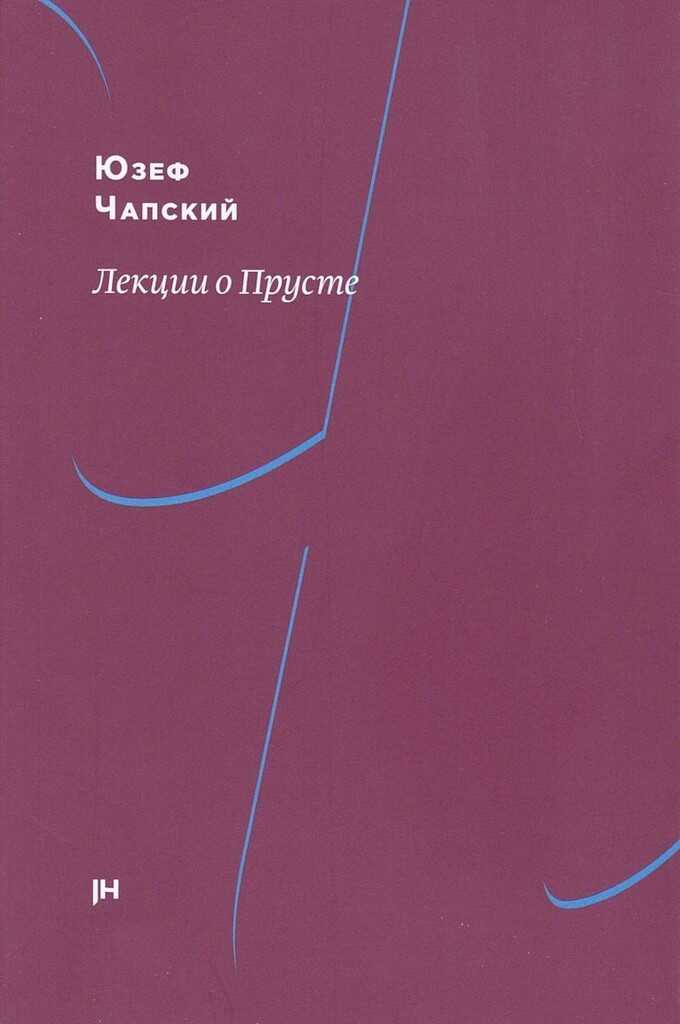Шрифт:
Закладка:
Жаль, что в книге Пии Гурской так мало описан фон ее воспоминаний, потому что там, где автор позволяет себе его описывать, получаются самые сильные места, лучшие образы. Но то был дворянский дом, где жили благородные люди — где даже одиночка Хелмоньский гостил месяцами и чувствовал себя счастливым. Наверное, не стоит сегодня об этом распространяться; вдруг молодой читатель в Польше подумает, что не все дворянские дома раньше были как из описаний Лысаковского, где жестокие помещицы кусали за уши слуг.
В доме автора Аснык и Конопницкая, должно быть, делили пьедестал с «Огнем и мечом» и «Семейными вечерами», а под бумажным абажуром пани Крупинской, у рояля, накрытого турецкой шалью, замена «Святого Войцеха, едущего к язычникам» на «Крестьянина» Хелмоньского была революцией; Константы Гурский читал свои стихи на перенесение праха Мицкевича или посвящения Моджеевской[243]; Ясенский славил Хокусая, а г-н Лаговский[244], идеалист и оригинал, защищавшийся от бросившихся на него коров томиком Словацкого, уже тогда предрекал большое будущее совсем еще молодому Жеромскому.
Лампа с абажуром «цвета малинового мороженого» не осветила горького одиночества Герымского, а Подковинский, быть может, не задохнулся бы психически и как художник, если бы и он попал в этот маленький салон. Жеромского Пия Гурская упоминает, но это уже как будто мир другого масштаба («…сжимает железными шпорами до удушья бедное мое сердце, чтобы выжать из него каплю святости»). Тридцатилетний Бжозовский, умирающий в нищете во Флоренции («…почему я не могу работать, как мог бы, а я мог бы. Я изменил бы характер польской литературы на целое поколение и был бы счастлив»), вероятно, при жизни не был известен автору даже понаслышке, Валишевский, Чижевский упоминаются, но и они порозовели, потеряли свои жала.
Можно ли упрекнуть в чем-то автора этих воспоминаний? Ни в коем случае. Мы благодарны ей за то, что она рассказала о тех, кого знала и любила, потому что тот мир тоже был одним из звеньев польской культуры.
195616. Об «Избранном» Розанова
«Как можно писать о религии в Польше, где есть только архиепископ Теодорович и Дашыньский!»
Эта варшавская boutade[245] двадцатых годов эмигранта Философова, одного из основателей Религиозно-философского общества в России в начале века, друга, первооткрывателя и оппонента Розанова, может быть, еще больше подходит к сегодняшней Польше.
Тогда был еще профессор Зелинский, исследователь античных религий, — он пытался вывести христианство скорее из Греции, чем из Библии, был Мариан Здзеховский — он ездил к Пию X защищать одного из лидеров модернизма, своего друга, чуть не лишенного сана ксендза Лабертоньера, ездил в Ясную Поляну к Толстому, а в Сорбонне, будучи профессором Ягеллонского и Вильнюсского университетов, читал лекции о религиозных течениях в России, о Соловьеве и Хомякове.
Есть ли в сегодняшней Польше исследователи религии подобного масштаба, пишущие с такой же, как они, абсолютной свободой и откликом если не общества, то хотя бы откликом своей верной читательской публики? Сегодня, вероятно, еще чаще для среднего читателя «Тыгодника Повшехного», чем когда-то для читателя «Тыгодника Илюстрованого», а тем более «Пшеглёнда Вспулчесного», религия — это исключительно католицизм, а католицизм — в первую очередь защита польскости, в то время как для среднего читателя «Трибуны Люду» или даже «По Просту» любая религия — мракобесие и опиум[246]. Иногда надо ее терпеть из соображений тактичности или даже во имя честной воли к демократизации коммунизма («народ — католик»), но точно не ради религии как таковой, которая, понятное дело, — сказка для не всегда послушных, но точно глупых детей.
Поэтому о религиозной проблематике в ее самом широком понимании лучше не писать. Зачем увеличивать поле ее действия. Но не грозит ли Польше неписаный союз, напоминающий многолетний сговор атеистов-моррасистов[247] с определенным типом католиков, защитников трона и уклада, союз, о котором с внутренней дрожью писал Бжозовский[248], потому что видел в нем как раз противоположность религии.
Еще один повод — помимо удивительного равнодушия в Польше к бескорыстным дискуссиям на религиозные темы, — затрудняющий разговор о русском писателе Розанове, это отсутствие стремления к узнаванию, углублению знаний о России не только в аспекте современности и политики, но и в целом. В этом плане ситуация, кажется, только ухудшилась, несмотря на такие журналы, как «Пшиязнь» и «Опине». Не сомневаюсь, что свободное изучение России сегодня сопряжено с бесконечными трудностями, которых не было не только в годы независимости, но даже и в царское время. Но не является ли главным препятствием как раз органическая антирусскость и вообще глубокая неприязнь к России?
В 1863 году, в год восстания, Норвид имел смелость осуждать эту позицию:
Только свободные люди, только те, на ком нет каленого клейма с колыбели, как на рабах, знают, что, гранича с Россией, нужно иметь там свою партию — иначе всегда встречаются два монолита, не имеющие ничего между, — а если монолиты сталкиваются, остается пустота и окончательное раздробление сил. Москва могла иметь свою партию в республиканской Польше… но поляки никогда не делали такой попытки — политического смысла не видели в создании