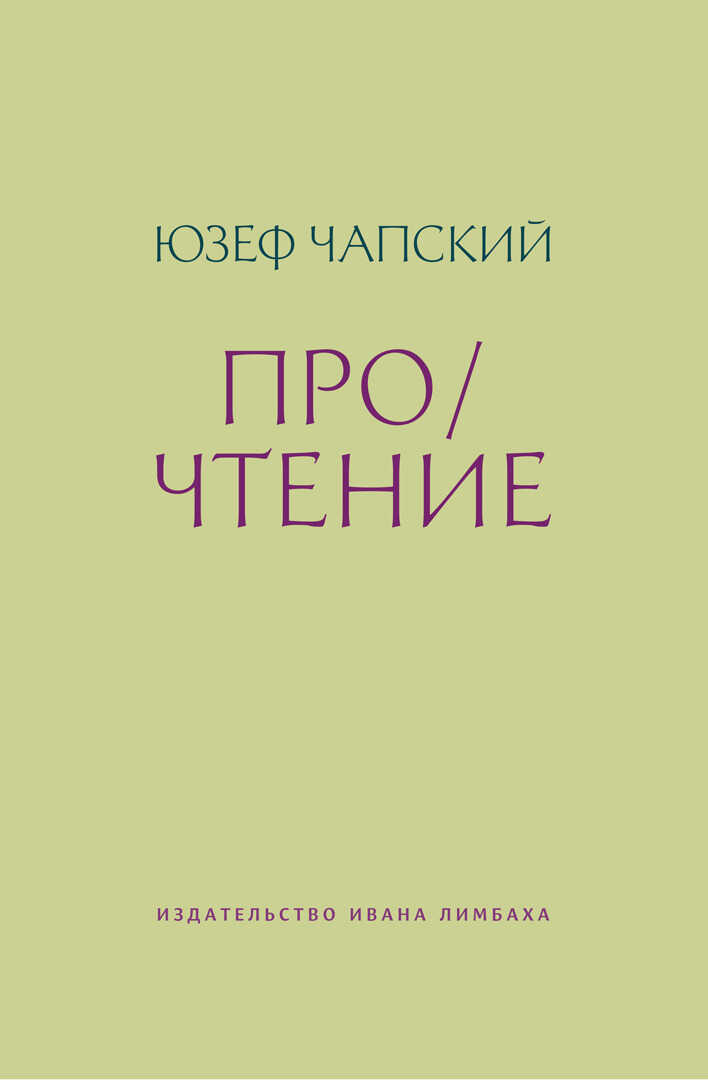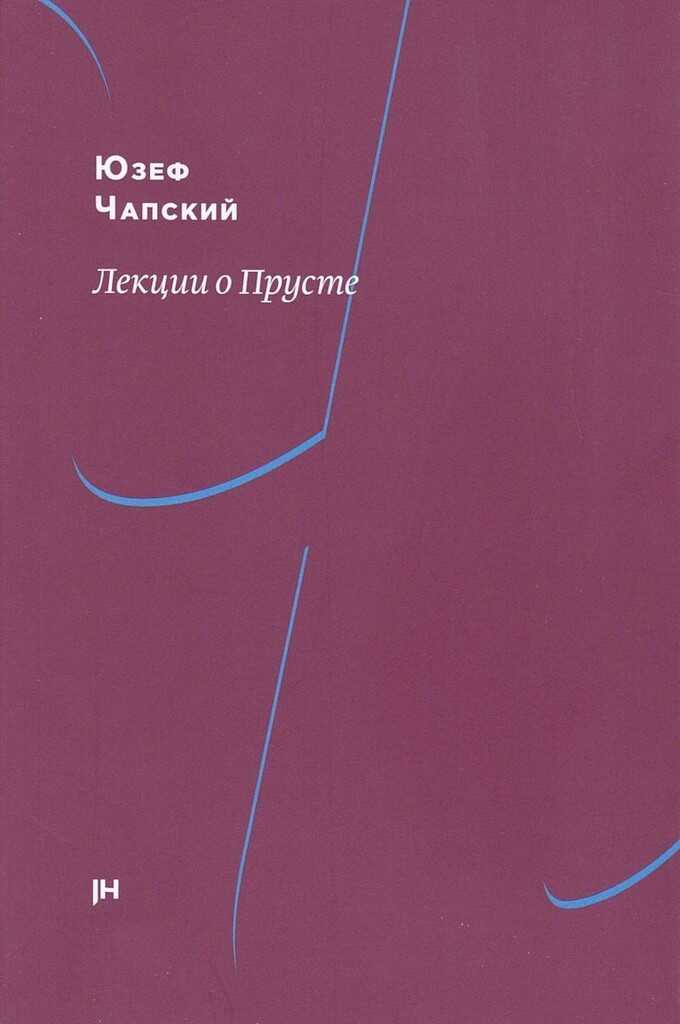Шрифт:
Закладка:
На первый план выходит благородная и исключительная фигура Хелмоньского. Автор была знакома с ним лучше всего (Хелмоньский проводил целые месяцы у них дома, она была его ученицей). Хелмоньскому она осталась верна до сих пор, и эмоционально, и художественно.
Как трудно принять, что эпоха, стиль, с которыми боролись как с ретроградными, — имели свою молодость, свой смысл, в какой-то момент революционный, пока их не поглотили манера, повтор, склероз. Может быть, чтобы принять это, нужно самому познать границы или даже деградацию того, что в молодости ощущалось как последний писк современности, а значит окончательной правды?
В первых главах мы слушаем разговоры с Сенкевичем — читавшим Дюма перед сном, с Вейсенгофом[234], возвращающимся из Греции. С молодости я вслед за Станиславом Бжозовским[235] был против Сенкевича, а уж Вейсенгофа благодаря Бжозовскому и в руки не брал, хотя тот был другом моего отца и бывал у нас. У меня с тех времен остался образ довольно пожилого господина, который с маслеными глазками и немного обвислой влажной губой гастронома подсаживался на диван поближе к дамам бальзаковского возраста (для меня, недоросля, — старым теткам). Потом он объяснял (он нас страшно впечатлял как писатель), что… «изучает типажи».
Сенкевич, Вейсенгоф, поланецщина[236] и Подфилип-ский, первого Гурская описывает в ареоле не то что славы, а просто-напросто культа, второго — как переводчика Гёте, редактора «Библиотеки Варшавской», защищающего достоинства произведений искусства независимо от темы, а значит, Вейсенгофа смелого, располагающего, по тем временам почти революционного. Хотя Хелмоньский уже тогда ругался, что у Вейсенгофа «Акрополь и ужин с икрой — всё в одном горшке».
В первых главах мы наблюдаем открытие реализма в «деревне тихой и спокойной[237]». Хелмоньский — выразитель этой правды, для Польши еще новой.
Весь акцент наших гораздо более поздних битв за установление новой, более художественной иерархии ценностей в оценке нашего XIX века шел к Михаловскому, против историзма Матейко, не переложенного на язык живописи, к Александру Герымскому, против Хелмоньского — ведь сразу было видно, что реализм «Четверки»[238] был за сто миль от «Сольца», «Мальчика со снопом» или «Барочников»[239]. Но Пия Гурская вновь показывает, какую революцию производила в их деревенском салоне еще в девяностые годы именно картина Хелмоньского, в которой не было «идеальной красоты», а была резкая реалистичная акварель, изображающая ободранного деда с кнутом в руке. «Правда жизни, переданная без идеализации, сочетающаяся с глубоким чувством и страстной любовью к природе, пониманием поэзии природы, не приукрашенной по какому-то шаблону, — все это привнес Хелмоньский в польское искусство». Незначительные анекдоты вроде пинка картине Пии Гурской («нельзя так, панна Пия!») или приукрашенного живописного портрета ради нескольких десятков рублей на детский сад иллюстрирует серьезность и бескомпромиссность отношения Хелмоньского к искусству.
Если это не было великой живописью, если нельзя сравнить Хелмоньского не только с традицией Энгров, Дега и Моне, но и с Герымским или даже с Подковиньским лучших времен, то все равно это было шагом вперед от исторических колымаг Герсона и тухлых перепевов Овербеков и Деларошей, а по добросовестности бесконечно превосходило Жмурко, Стыку или Семирадского. Популярность последних пошлых «мастеров» тогда была гораздо большей, чем сейчас может показаться.
Говоря о Хелмоньском, Пия Гурская дает описания его отношения к природе, животным, силу неизвестных широкой публике деталей, связей (таких, как влияние товианства[240], не чуждое ревностной набожности Хелмоньского), пишет о его страсти национальной художественной самодостаточности, такой типичной для человека, который, в сущности, почти никак не воспользовался Парижем, прожив в нем двенадцать лет. Насколько же ближе Хелмоньский к Репину, чем к кругу Дега или последователям Энгра. Это самый типичный аналог русских pieriedwiżników, за которыми в России пришел «Мир искусства», когда «Жизнь» и «Химера» Мириама внедряли в Польше пресловутые «безнравственные» теории «искусства ради искусства». Неудивительно, что Хелмоньский любил Репина и немецкого живописца Уде (евангельские сцены по-народному), а в Париже — очень известного тогда Мейссонье и еще Бретона, все незначимые художники.
Следующий этап борьбы за искусство в Польше (пшибышевщина, «Химера» Мириама) автор видит словно издалека, цитирует шутки Хелмоньского над культом настроения и патетикой этих течений, но как будто не принимает во внимание, что, кроме модернистских гримас, там было открытие не только Выспянского, но и Ибсена, что, кроме культа жалких прерафаэлитов в «Химере», там было явление Норвида, прекрасные переводы великих французских писателей и поэтов, от Бодлера и Вилье де Лиль-Адана до Малларме, открытие целых художественных миров, в которых благородные поклонники Асныка[241], Конопницкой[242] и того же Хелмоньского должны были совершенно теряться. Это были окна, наконец-то открытые на мир не Дюма и Мейссонье, но художников.
Неслучайно