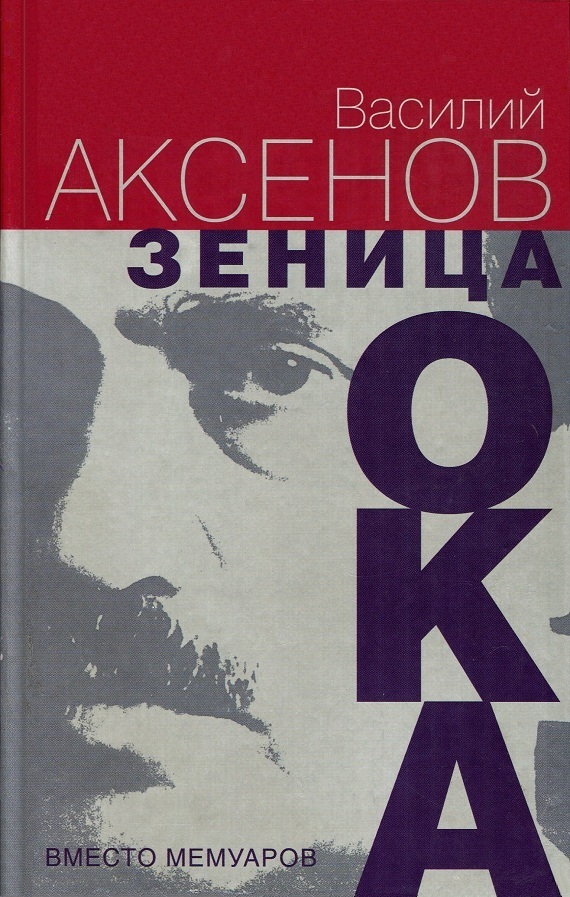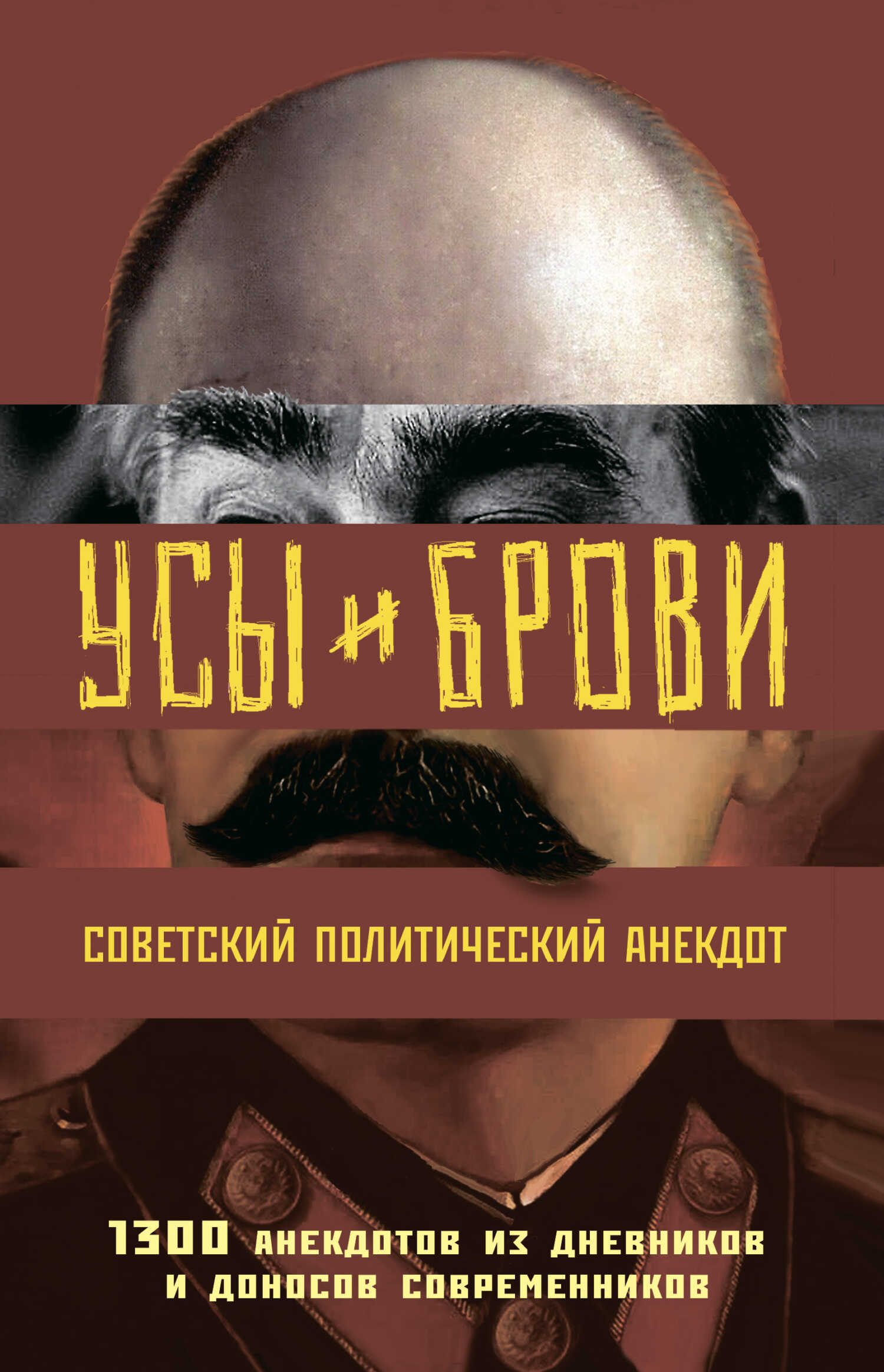Шрифт:
Закладка:
Дискуссии о том, как люди жили в СССР, идут с момента распада Союза. Однако споры между теми, кто ностальгирует по советской действительности, и убежденными сторонниками реформ редко принимают аргументированный оборот. В своей книге Дмитрий Травин пытается это исправить и собирает большой объем фактического материала, свидетельствующего об ушедшей эпохе: от писем, дневников, мемуаров и анекдотов до экономической статистики и научных работ. В центре его исследования – жизнь простого советского человека: как он работал и учился, отдыхал и делал покупки, взаимодействовал с официальной идеологией и мечтал о зарубежных поездках. Автор ищет ответы на важнейшие для постсоветского сознания вопросы: почему мы и тоскуем по советскому прошлому, и проклинаем его одновременно? Что в нем определялось социальным строем, а что существовало независимо от него? От какой части советского «наследства» следует навсегда отказаться, а какую – взять с собой в будущее? Дмитрий Травин – кандидат экономических наук, специалист по экономической истории и исторической социологии, с 2008 по апрель 2024 года – научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге.