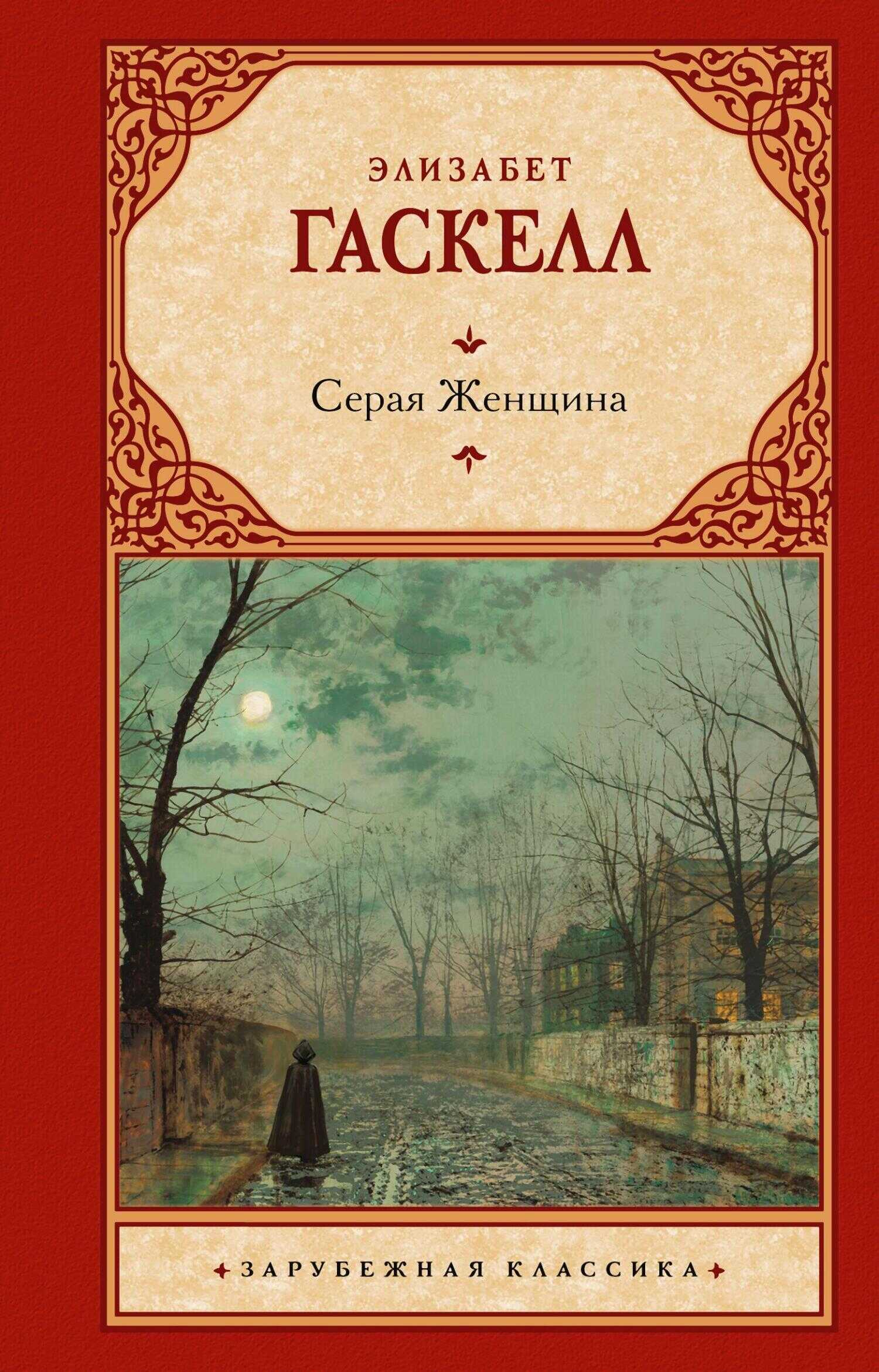Шрифт:
Закладка:
Элизабет Гаскелл (1810–1865) принадлежит к яркой плеяде прославленных английских романистов и, наряду с Шарлоттой Бронте, занимает самое почетное место среди «литературных леди» Викторианской эпохи, а ее произведения признаны шедеврами мировой классики. В их числе романы «Мэри Бартон», «Крэнфорд», «Север и Юг», «Жены и дочери» и др. В настоящем сборнике представлена «малая проза» автора, собрание рассказов, написанных в разные годы жизни, на страницах которых оживают картинки из жизни «старой доброй Англии». Это самые разные истории – поучительные, мистические, трогательные и курьезные, – в которых переплетаются сквозные темы и сюжеты творчества Элизабет Гаскелл: тайны человеческого сердца и загадочные предначертания рока, который управляет судьбой; извечное противоборство чувства и долга; способность творить добро и зло, в равной мере присущие человеку, и ответственность за свои поступки, а вместе с этим и неизбежность расплаты; сила любви и веры в Бога, дарующая спасение и противостоящая судьбе.Большая часть рассказов, включенных в сборник, публикуется на русском языке впервые.


![Рука и сердце [сборник litres] - Элизабет Гаскелл](/uploads/posts/books/19176/19176.jpg)
![Под покровом ночи [litres] - Элизабет Гаскелл](/uploads/posts/books/19175/19175.jpg)