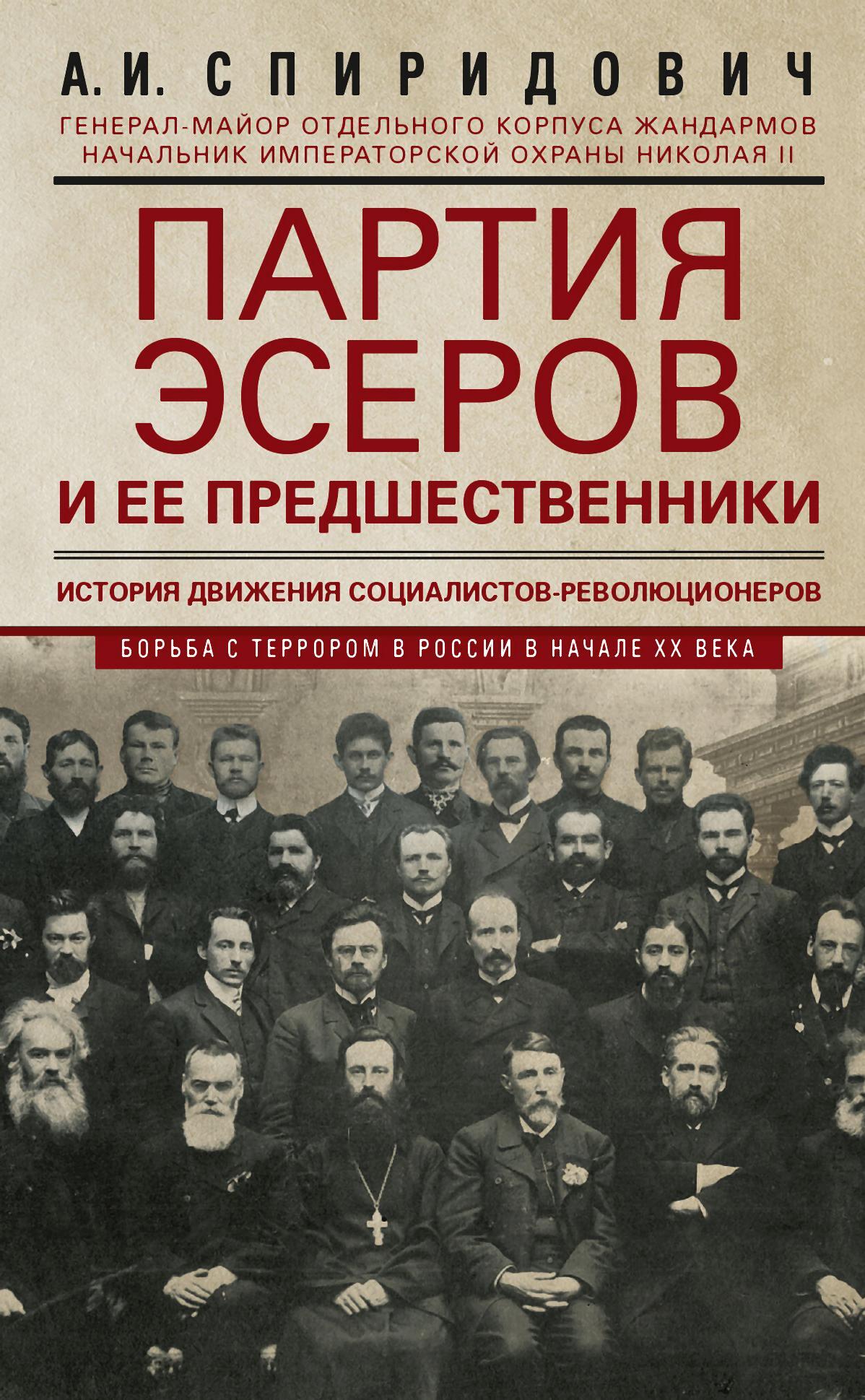Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
К Хрому все ходят за консультациями, но он не психолог, не юрист и даже не гений преступного мира. Хром так же, как и вся страна, работает, так же жарит картошку на маленькой кухне, так же смотрит телевизор по вечерам и злится на гололед у подъезда по утрам. Так же, как все, разговаривает с ковром и уговаривает буфет отдать ключи от тачки, потому что опаздывает, так же… Хотя нет, Хром не совсем обычный. И именно поэтому однажды к нему приходит странный посетитель, который переворачивает всю его прежнюю жизнь – очень непросто оставаться в стороне от мертвой шаманки, неведомой хтони и разборок местных авторитетов, если те уже решили, кто в них участвует. В книге присутствует нецензурная лексика!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Влада Багрянцева»: