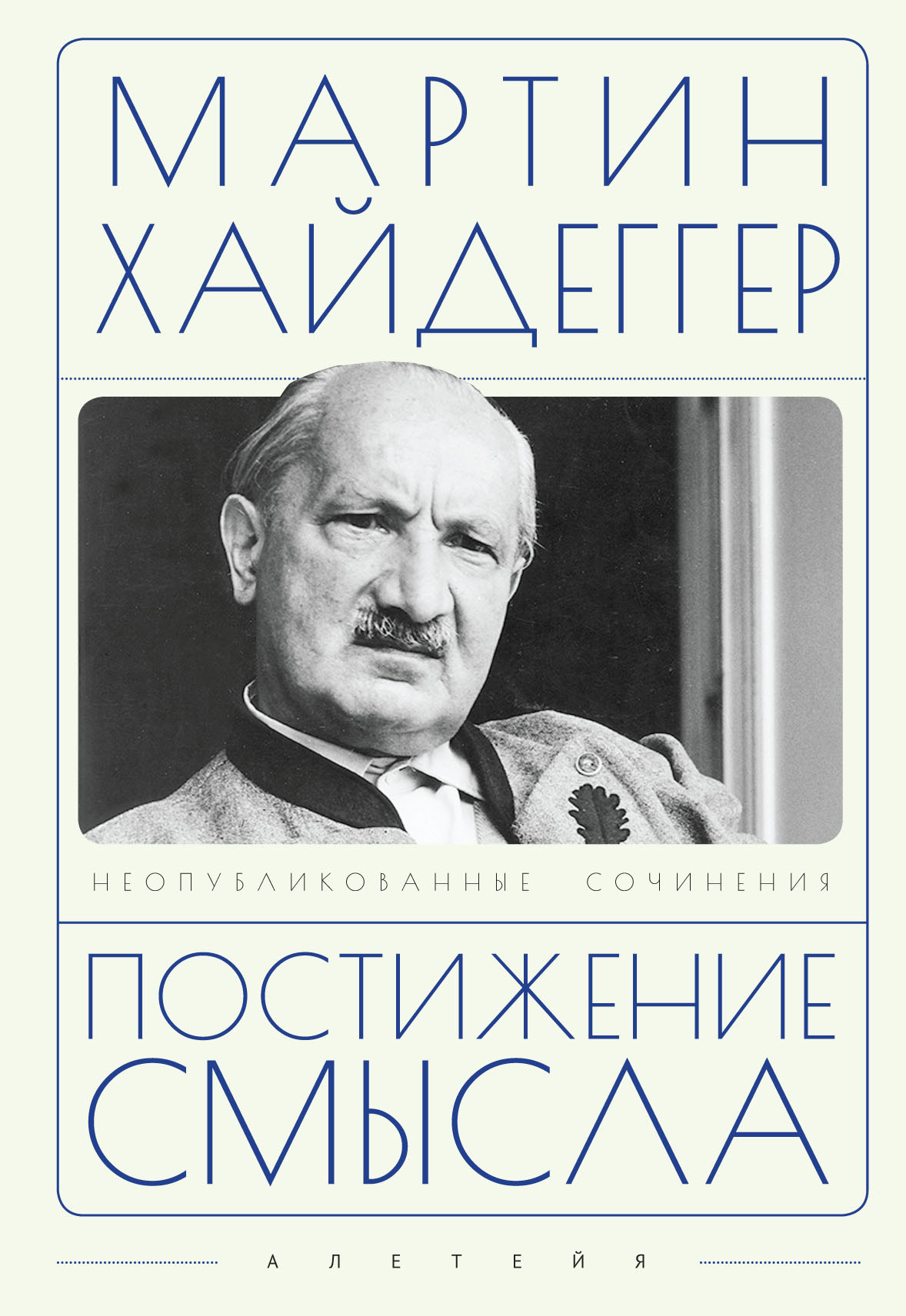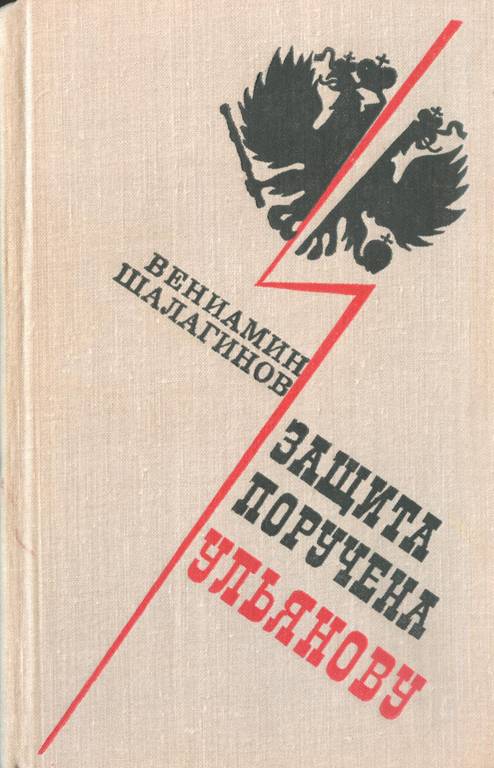Шрифт:
Закладка:
Книга гонконгского философа Юка Хуэя представляет собой исследование историко-метафизического вопроса о технике. Опираясь на идеи Жана-Франсуа Лиотара, Жильбера Симондона, Бернара Стиглера и представляя историю современной восточной мысли (включая такие фигуры, как Фэн Юлань, Моу Цзунсань и Кэйдзи Ниситани), в значительной степени неизвестной русским читателям, автор проливает новый свет на вопрос о технике в Китае.Почему техника никогда не тематизировалась в китайской мысли? Почему время никогда не было настоящим вопросом для китайской философии? Как трансформировалось традиционное понятие Ци в отношении к Дао по мере того, как Китай принимал технологическую современность и вестернизацию?В «Вопросе о технике в Китае» систематический исторический обзор основных понятий традиционной китайской мысли сопровождается оригинальным исследованием перечисленных проблем и подводит к вопросу: как китайская мысль может сегодня поспособствовать критической переоценке глобализированной техники с космотехнических позиций?В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.