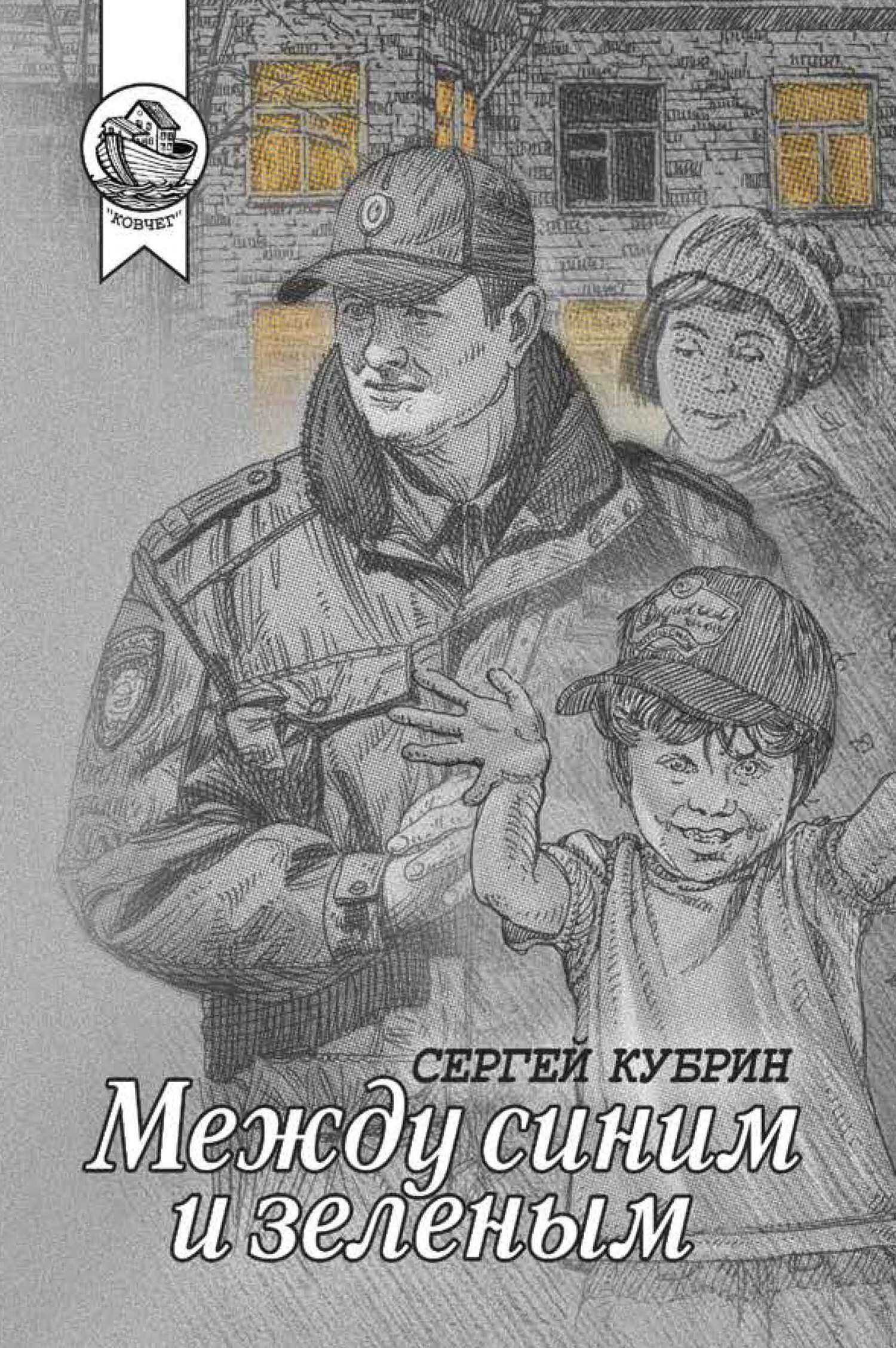Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В Петрополисе, альтернативном Петербурге, после победы декабристов в 1825 году, расследуют преступления экспериментальный робот Ариадна (полицейская модель № 19) и Виктор Остроумов, единственный человек, кто не побоялся с ней работать.Сможет ли Виктор уцелеть в предстоящих ему расследованиях? И кто для него будет опаснее: городские маньяки, наемные убийцы или его язвительная и самовлюбленная напарница?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Тимур Евгеньевич Суворкин»: