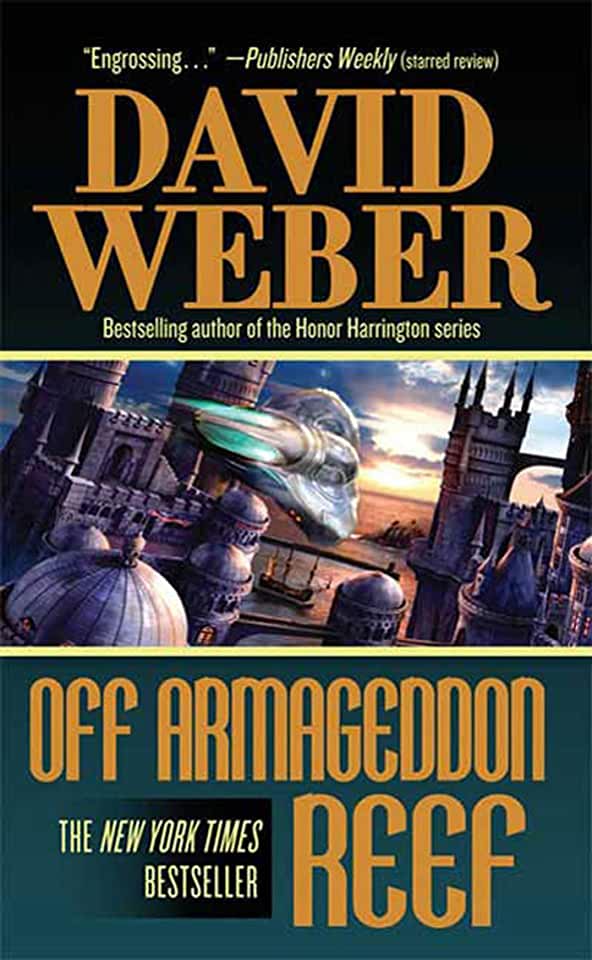Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
С конца XIX века до начала Второй мировой войны американские эксперты по России изучали стремительную индустриализацию и сопровождавшие ее социальные потрясения. Увлеченные идеями модернизации дипломаты, журналисты и ученые из разных политических кругов пытались обосновать или оправдать огромную цену прогресса – при этом многие американские интеллектуалы в своих работах использовали клише о русской пассивности, «отсталости» и фатализме, чтобы объяснить для себя те издержки, которые несло население страны. В своем исследовании Дэвид Энгерман подчеркивает, что интерес американцев к России и СССР был связан в первую очередь с экономикой, – и показывает, как этот интерес в итоге глубоко влиял на политику самих США.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дэвид Энгерман»: