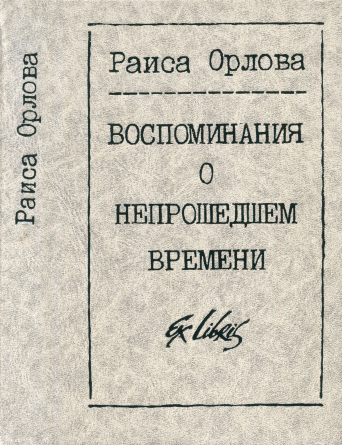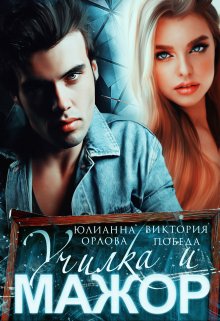Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В 1993 г., уже после смерти Орловой, увидела свет ее книга «Воспоминания о непрошедшем времени», в которой она с непреоборимой беспощадностью к себе рассказала о жизненных перипетиях своего поколения. Эту книгу Раиса Орлова писала двадцать лет. Она вновь и вновь перебирала все случившееся на ее веку, пыталась ответить себе и читателям, как вышло, что в молодые и зрелые годы верила в ложь и была невольной соучастницей этой лжи и зла, до конца ли искупила то, в чем считала себя виноватой. Пожалуй, особая ценность книги в том, что окончательного ответа автор не нашел.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Раиса Давыдовна Орлова-Копелева»: