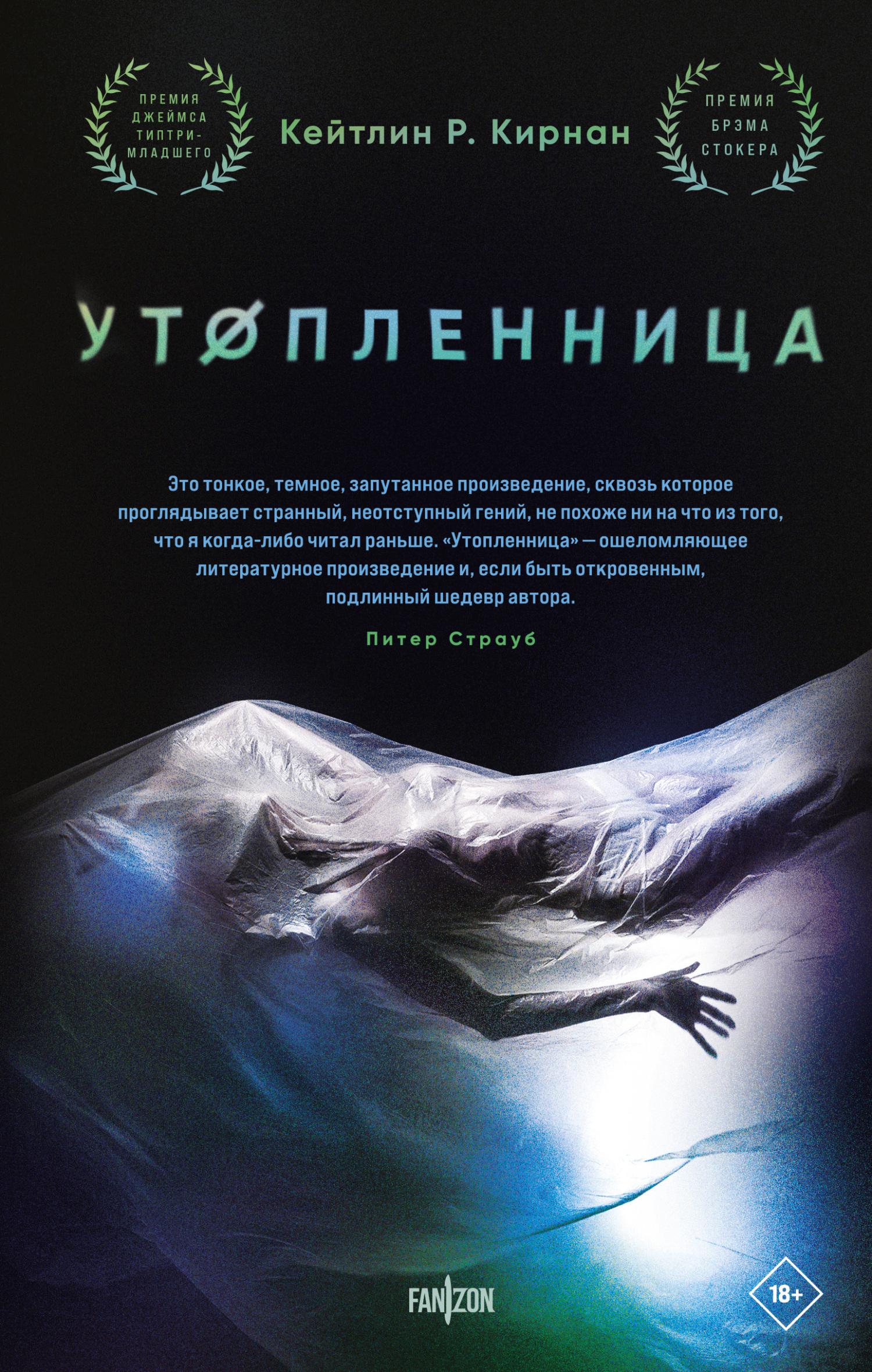Шрифт:
Закладка:
КАРТЫ ТАРО, ПРИЗРАКИ И АТМОСФЕРА РОМАНА «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ».Блюбелл Форд – бывший таролог. Девушка помогла огромному числу людей, пока однажды не случилось страшное: Блю случайно убила человека… неправильно прочитав расклад на картах Таро.С тех пор она изо всех сил старается жить обычной жизнью. В поисках себя, Блю приезжает в пансионат «Болото надежды», где людям помогают справиться с душевными травмами. Недельный ретрит без телефонов и Wi-Fi в прекрасном загородном особняке георгианского стиля. Йога, арт-терапия и посиделки у камина – идеальная программа для обретения душевного спокойствия. Но всё идет совсем не так, как она планировала. Наводнение, отрезавшее связи с внешним миром. Смертельный холод в натопленных помещениях. Двери, открывающиеся сами собой. Более того – один из постояльцев бесследно исчезает из пансионата, оставив телефон, с которым никогда не расставался.И пока остальные изо всех сил пытаются делать вид, что все хорошо, Блю задается вопросом: кто из них скрывает мрачную, убийственно опасную тайну? И какова вероятность вернуться домой живой?«Невозможно оторваться!» – Крис Уитакер«Оригинальная, атмосферная, захватывающая история, напоминающая произведения Ширли Джексон. Не для чтения темной ночью!» – Максим Якубовский, Crime Time«Прекрасно написанная история с замысловатым сюжетом». – Heat«Леденит кровь и вызывает клаустрофобию. Мне очень понравилось!» – Джо Джейкман«Мрачно и завораживающе!» – Сара Вард«Мне однозначно понравилось! Атмосфера "Призраков дома на холме", карты Таро… Но отдельно я хочу отметить психологичность. Очень хорошо прописаны персонажи. Они вызывают сильные и очень разные эмоции. Я готова привести массу понравившихся моментов, но это, к сожалению, будет спойлером. Рекомендую к прочтению! Вы точно не пожалеете». – Книжный блогер Анастасия, Diagon Alley