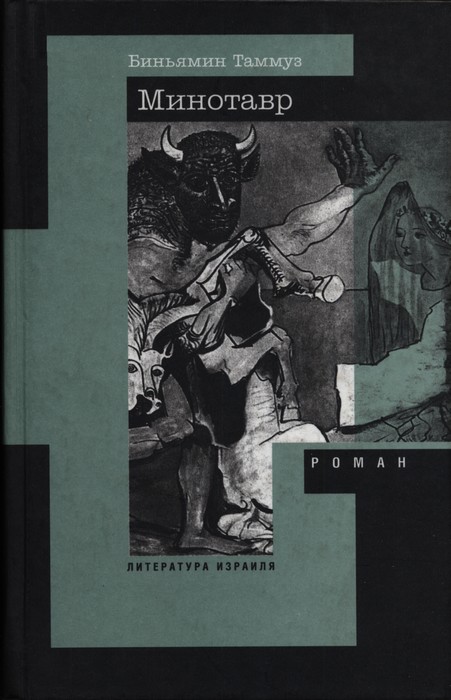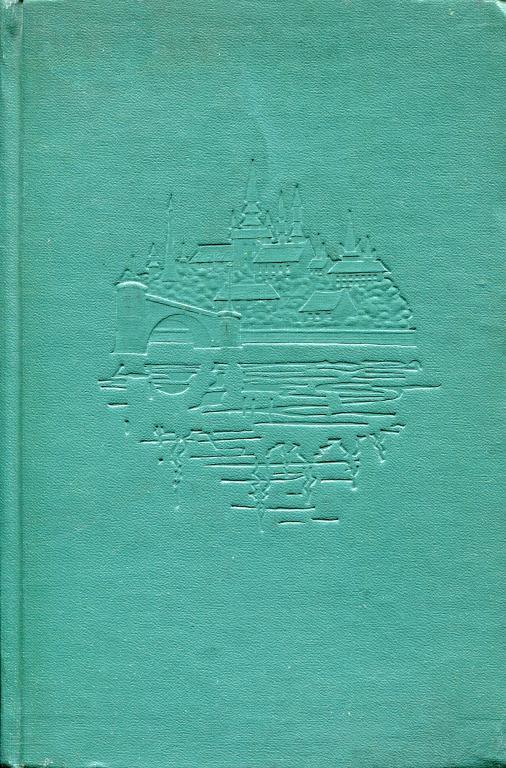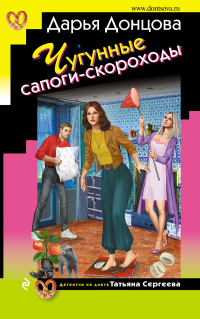Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман Минотавр рассказывает о буднях израильского тайного агента, в которые ворвалась всепоглощающая любовь к прекрасной девушке по имени Теа. И профессия, и время и место деятельности героя обрекают его на поиски выхода из лабиринта этнического и культурного противостояний. Биньямин Таммуз (1919, Харьков — 1989, Тель Авив) — один из ведущих израильских прозаиков, в этом увлекательном романе пересматривает увлекавшую его в молодости идеологию «Кнааним».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Бениамин Таммуз»: