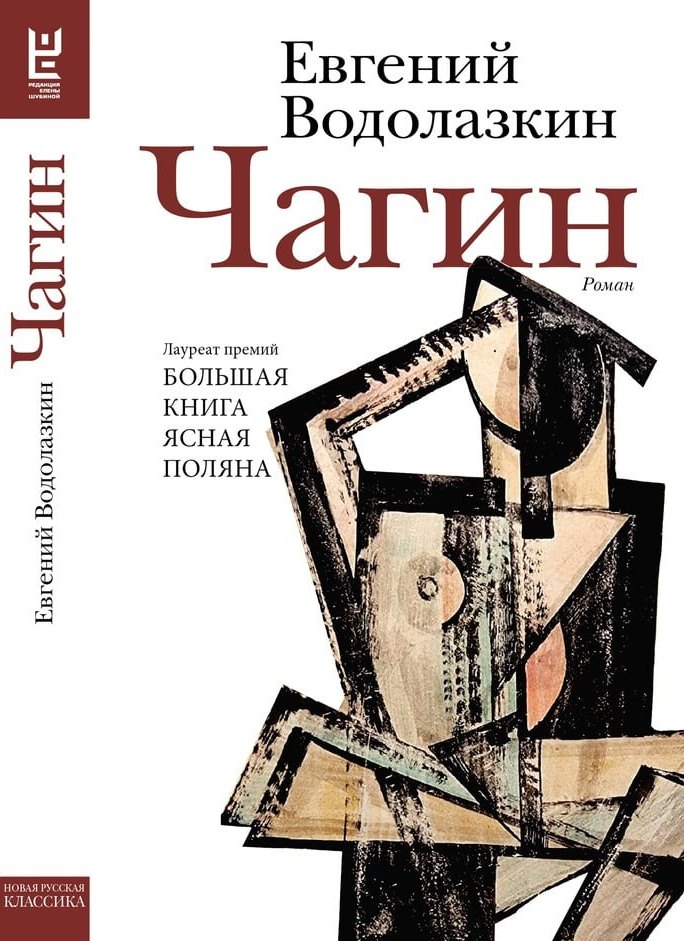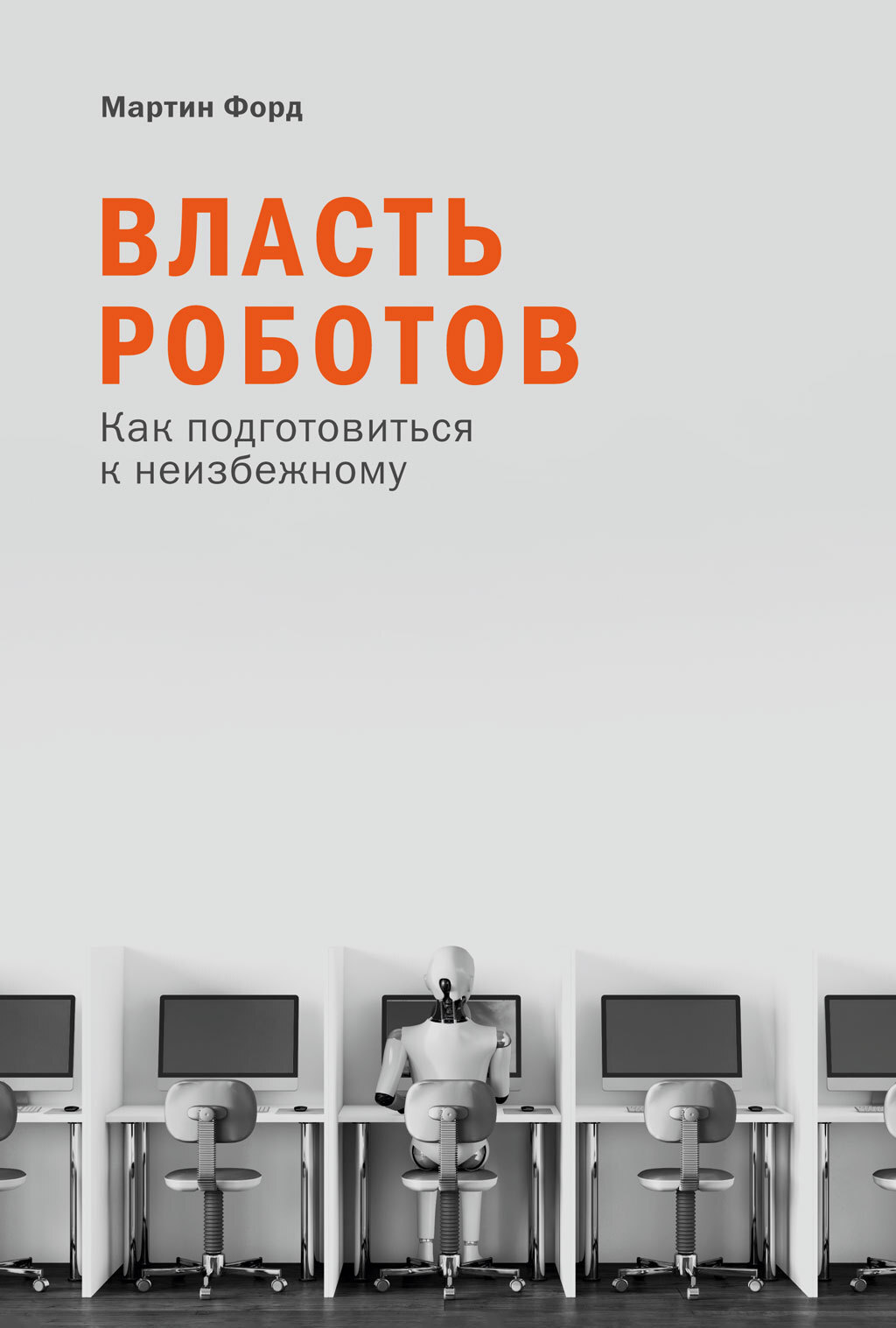Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Исидор Чагин может запомнить текст любой сложности и хранить его в памяти как угодно долго. Феноменальные способности становятся для героя тяжким испытанием, ведь Чагин лишен простой человеческой радости — забывать. Всё, к чему он ни прикасается, становится для него в буквальном смысле незабываемым. Всякий великий дар — это нарушение гармонии. Памяти необходимо забвение, слову — молчание, а вымыслу — реальность. В жизни они сплетены так же туго, как трагическое и комическое в романах Евгения Водолазкина. Не является исключением и роман «Чагин». Среди его персонажей — Генрих Шлиман и Даниель Дефо, тайные агенты, архивисты и конферансье, а также особый авторский стиль — как и всегда, один из главных героев писателя.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Евгений Германович Водолазкин»: