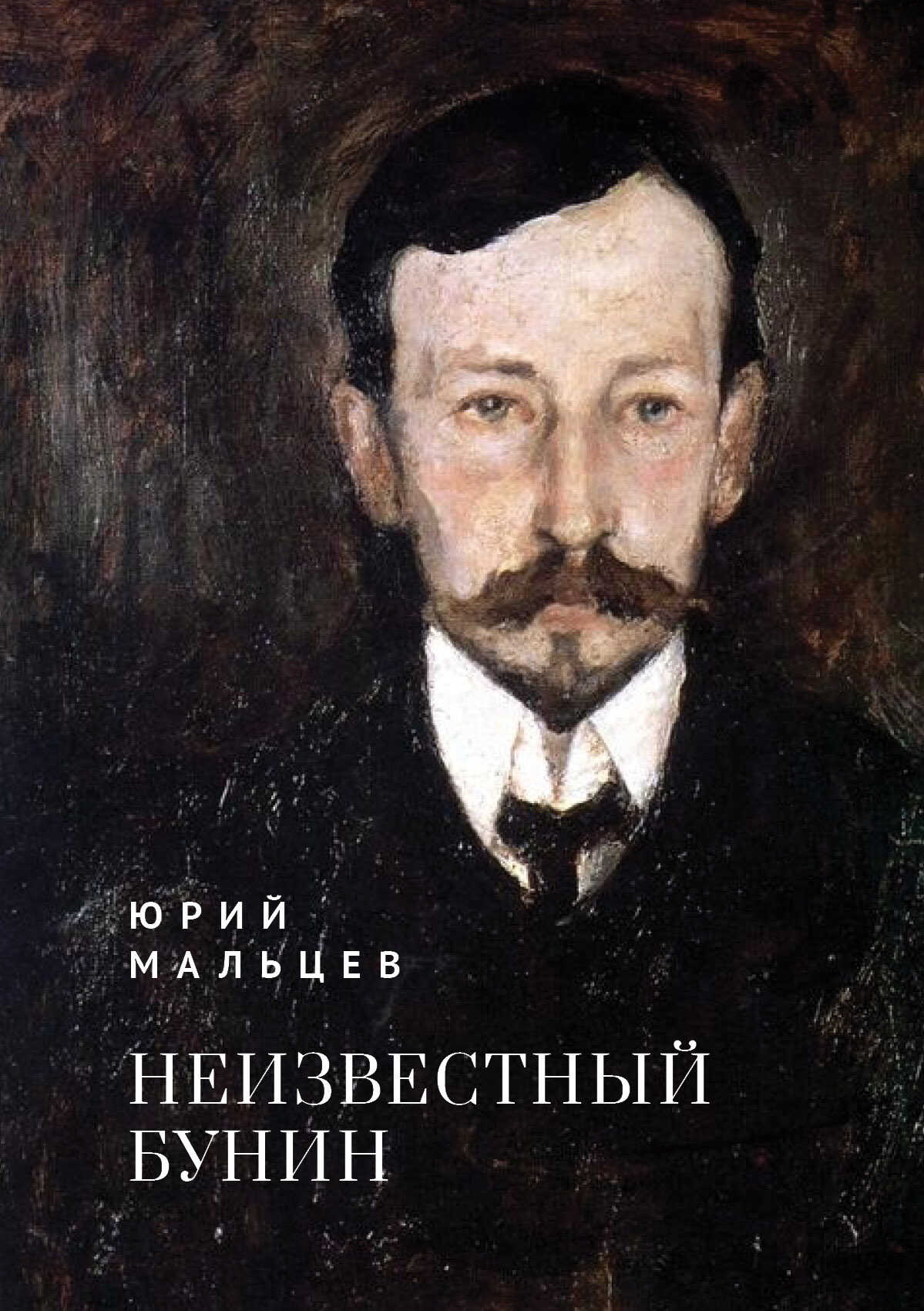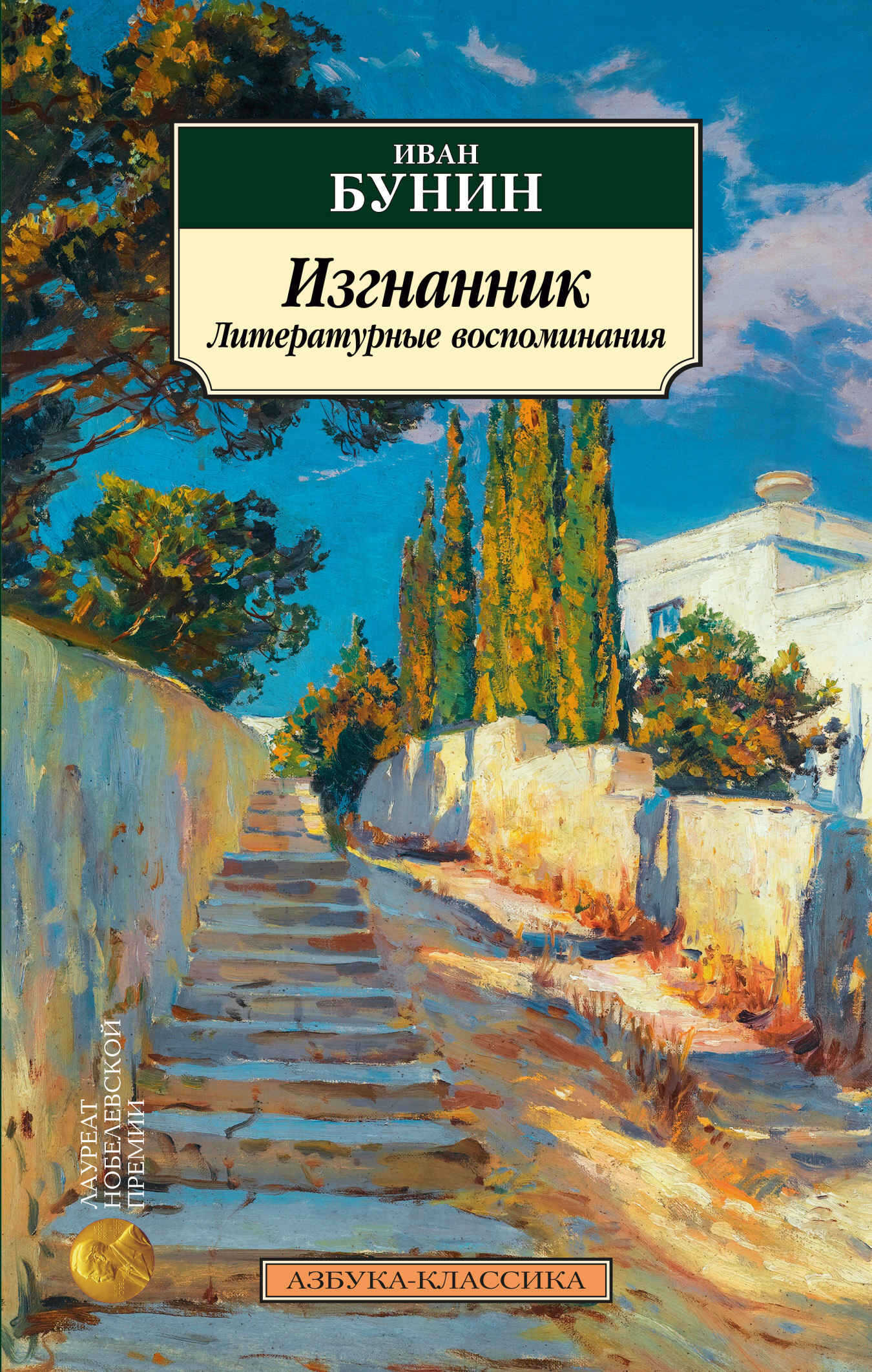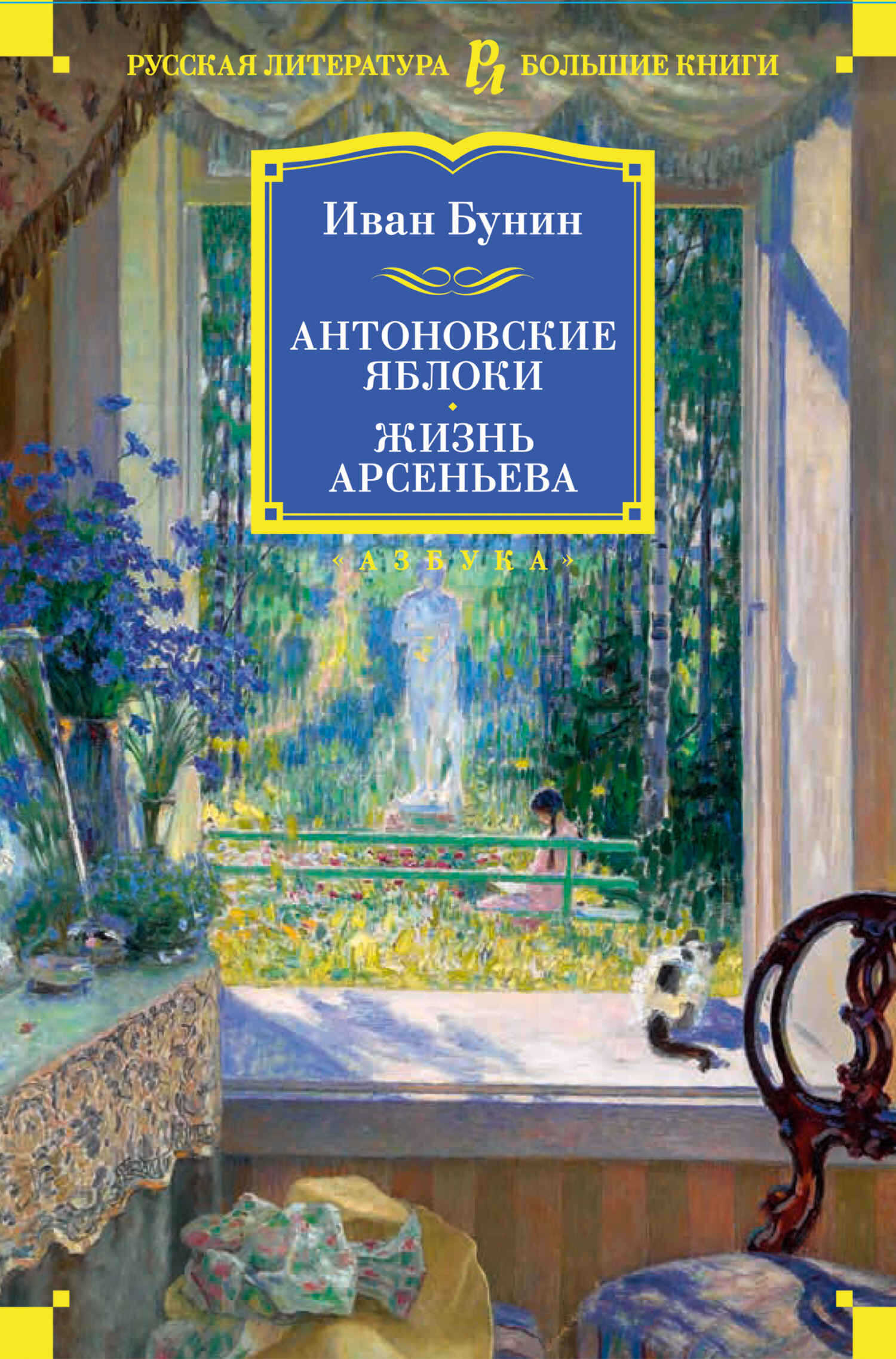Шрифт:
Закладка:
Даже в «Деревне» при всем ее внешне объективном и беспощадном тоне, вовсе не холодная констатация ужасов и жестокостей является подлинной характеристикой авторского взгляда. С жалостью и состраданием изображается не только мечущийся и несчастный Кузьма, не только дошедший до сознания полной бессмысленности собственной жизни богатый мужик Тихон, не только стареющая жена Тихона, Настасья Петровна, тщетно молящая Бога, чтоб он дал ей наконец родить ребенка («Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен», Пг. V. 6; чтоб увидеть и написать такое недостаточно холодной наблюдательности).
Даже такой отталкивающий персонаж, как Дениска, «новенький типик», «циничное животное», как говорит о нем Кузьма, образ, истолкованный советскими критиками как карикатура на революционера и на представителя нового поколения, изображен без сарказма и без иронии. Лишь при очень поверхностном чтении можно увидеть тут карикатуру. Скорбящим оком и с большой силой проникновения увиден и он. Достаточно посмотреть на портрет Дениски «с дешевым чемоданишко в руке, перевязанным веревкой», в старой поддевке, «видимо, очень тяжелой с обвисшими плечами» и т. д., или прочесть цветастое, колоритное и удивительное письмо Дениски к Тихону324, к сожалению, сильно сокращенное (как и многое другое) при позднейших переизданиях повести, которую сам Бунин на долгое время325 возненавидел, чтоб увидеть, какова здесь глубина проникновения и перевоплощения. И сострадание, которое вдруг Тихон Красов испытывает к Дениске и его беспутному отцу («Нет, безбожно! Надо хоть маленько помочь делу, – сказал он, направляясь к станции», Пг. V. 51), – это сострадание самого Бунина. Точно так же и другой отрицательный персонаж – непутевый Егор Минаев («Веселый двор»), вечно голодный и больной, изображается Буниным со скрытым состраданием. Критики увидели сострадание в «Деревне» лишь там, где оно выражено наиболее открыто – в образе Молодой. Но совершенно неверно истолковывать этот образ (как это делают советские критики и вслед за ними некоторые западные) как символ России, как выражение красоты, добра и душевности русского народа и т. д. Образ этот принижен, заземлен, как и всё в повести, и очень далек от идеализации. Молодая туповата, равнодушна к чужой беде, поведение ее отличается той же неровностью и иррациональностью, что и у прочих. Красота ее пропадает зря, никем не оцененная, всеми поруганная – это придает ей характер жертвы и подчеркивает скотское отношение мужиков к женщине и их равнодушие к красоте. Но эта чисто физическая красота вовсе не дополняется в ней красотой духовной. Образ ее лишен скрытой глубины и многозначительности, свойственной символу.
Свою иронию и гнев Бунин обращает не на мужиков, они для него все безвольные и бессознательные былинки в игре неведомых им гигантских сил, а на тех, кто этими мужиками спекулирует, на «прогрессивную» и либерально-демократическую интеллигенцию с ее обязательным «народолюбием», совершенно чуждую народу, далекую от него, не знающую народ и не понимающую его, но берущуюся решать его судьбу и определять его будущее. «Ведь вот газеты! До какой степени они изолгались перед русским обществом. И всё это делает русская интеллигенция. А попробуйте что-нибудь сказать о недостатках ее! Как? Интеллигенция, которая вынесла на своих плечах то-то и то-то и т. д.», – записывает он с гневом в своем дневнике, а при мысли о забитости и темноте народа восклицает: «От этого-то народа требуют мудрости, патриотизма, мессианства! О разбойники, негодяи!»326
Но это сострадание к народу совершенно иного качества, нежели народническое, оно соединено с пониманием того, что народ не только жертва своих условий жизни, но и творец этих условий и во многом сам их главный виновник.
Темнота и неприглядность русской деревни изображаются Буниным с беспощадной правдивостью, но в то же время с такой страстью, с таким страданием и с такой глубиной понимания, какой нет ни у кого из современных ему писателей. «Если бы я эту "икону”, эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, – запишет он позже в своем дневнике, – из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, – и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-экономическое общество»327.
Столь поразившие русскую публику жестокие и часто отталкивающие сцены написаны с какой-то отчаянной и вызывающей бравадой самобичевания (вот тоже чисто русская черта – самоистязание и упоение своим страданием). Только русский мог осмелиться написать такое о России.
Разговоры о бунинской жестокости и «парнасской» холодности (причем мнения эти не раз высказывались не только русскими критиками, но и иностранными; например, Ренато Поджоли говорит о «художественном взгляде» Бунина как о «пыточном инквизиторском орудии, своего рода сверле»328) – есть не что иное, как результат смешения художественного метода с эмоциональной настроенностью автора. Против такого смешения предупреждал в свое время Эйхенбаум, говоривший о «специфичности эмоций» эстетического восприятия. «…Область душевных эмоций, связанных с индивидуальностью как таковой, нейтрализуется, а возбуждается область эмоций иного порядка. <…> Нейтрализацию душевных эмоций я считаю основным эстетическим законом для искусств, пользующихся словом и живущих в воспроизведении»329.
И тот факт, что Бунин достиг такой «нейтрализации», свидетельствует о его большой художнической зрелости в эти годы, а также о большом его самосознании как художника330. Утверждение критика А. Амфитеатрова («Одесские новости», 19 мая 1912 г.), что в произведениях Бунина нет любви, вызвало у Бунина лишь ироническое замечание: «Вот и угоди тут! Буду развивать в себе помаленьку и любовь. Да боюсь, что поздно…»331.
Следы борьбы со своей собственной старой «лирической» манерой повествования можно видеть, например, в рассказе «Старуха». В рукописи рассказ заканчивается страстными проклятиями автора «страшному миру», затем исключенными из окончательного текста332.
После «Деревни» Бунин, можно сказать, уже полностью контролирует собственный лиризм, он не исключает его вовсе, а превращает его в сознательный компонент художественного целого, несущий свою четкую функцию эстетического воздействия. Это уже не спонтанные и неконтролируемые авторские излияния: эффект их точно рассчитан. Таким образом, в этот