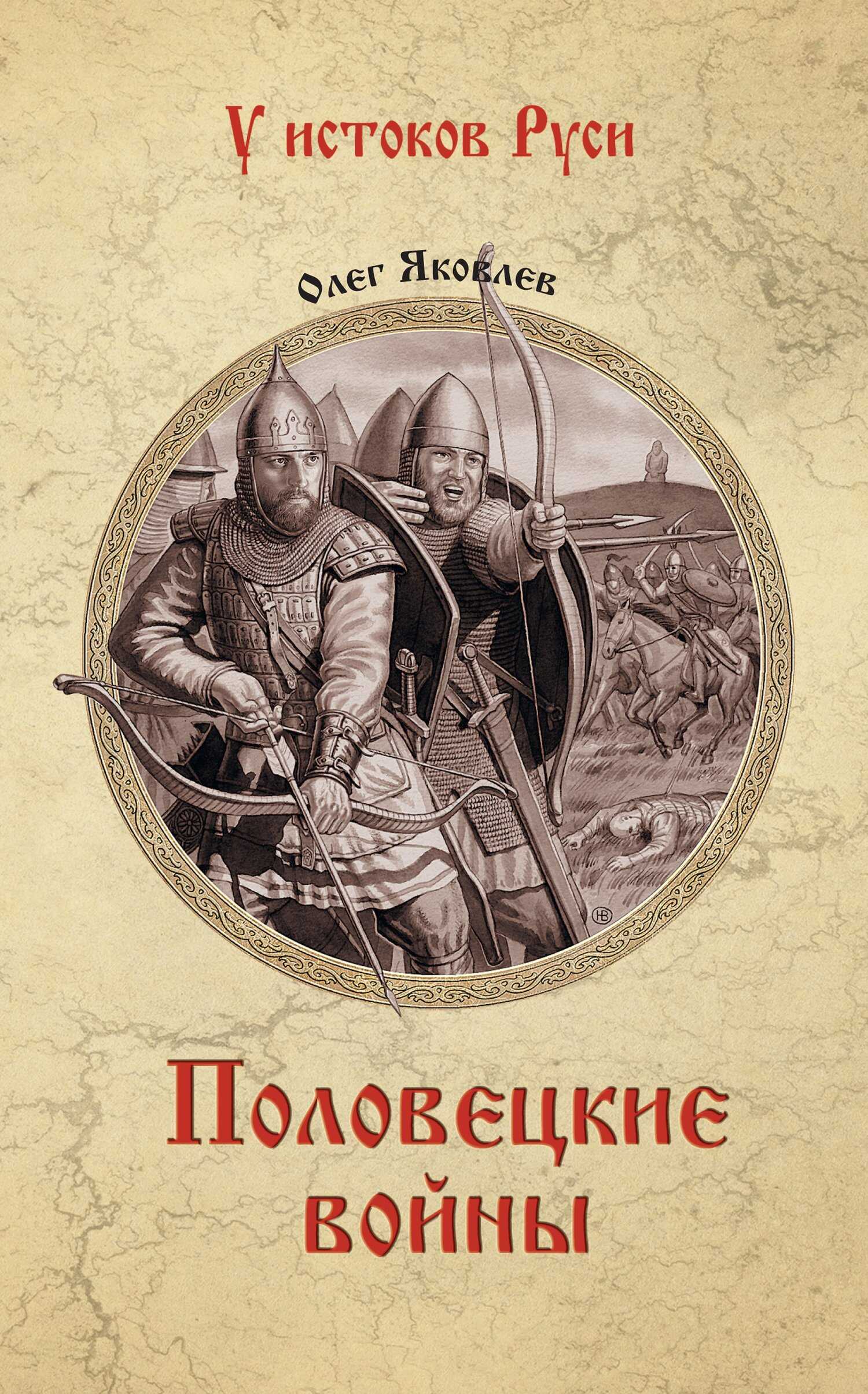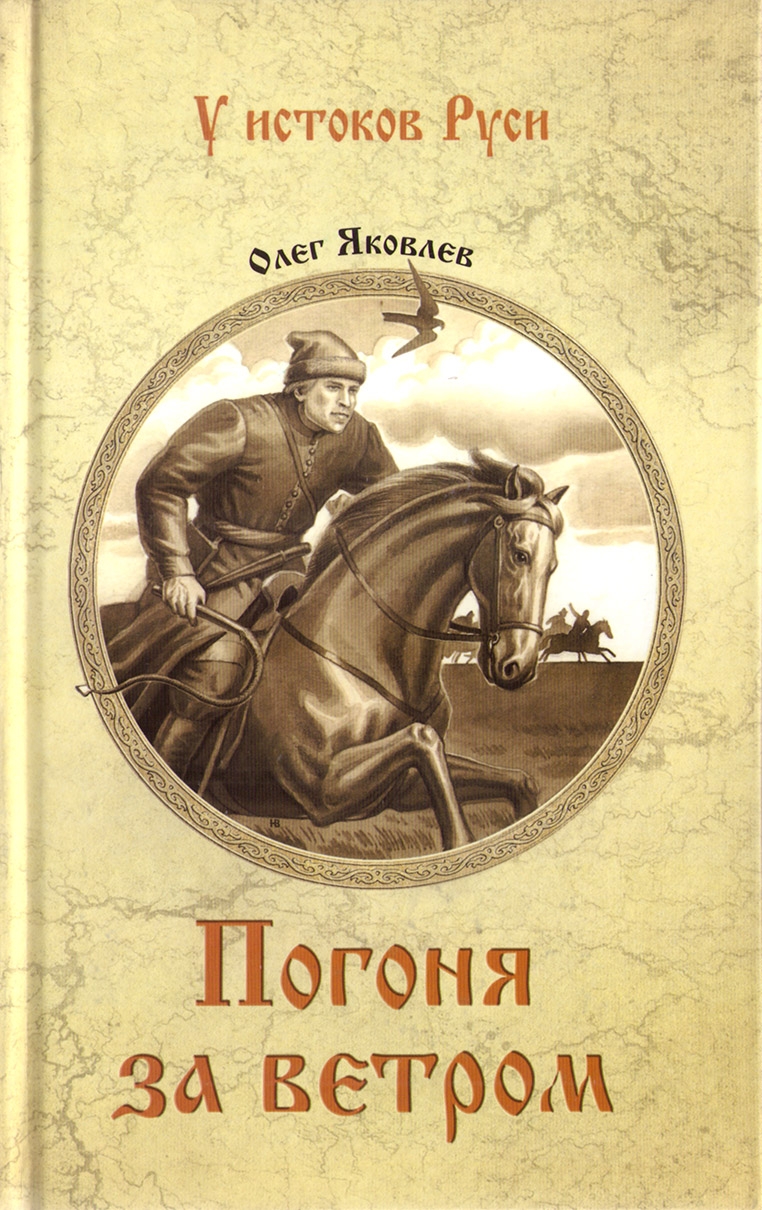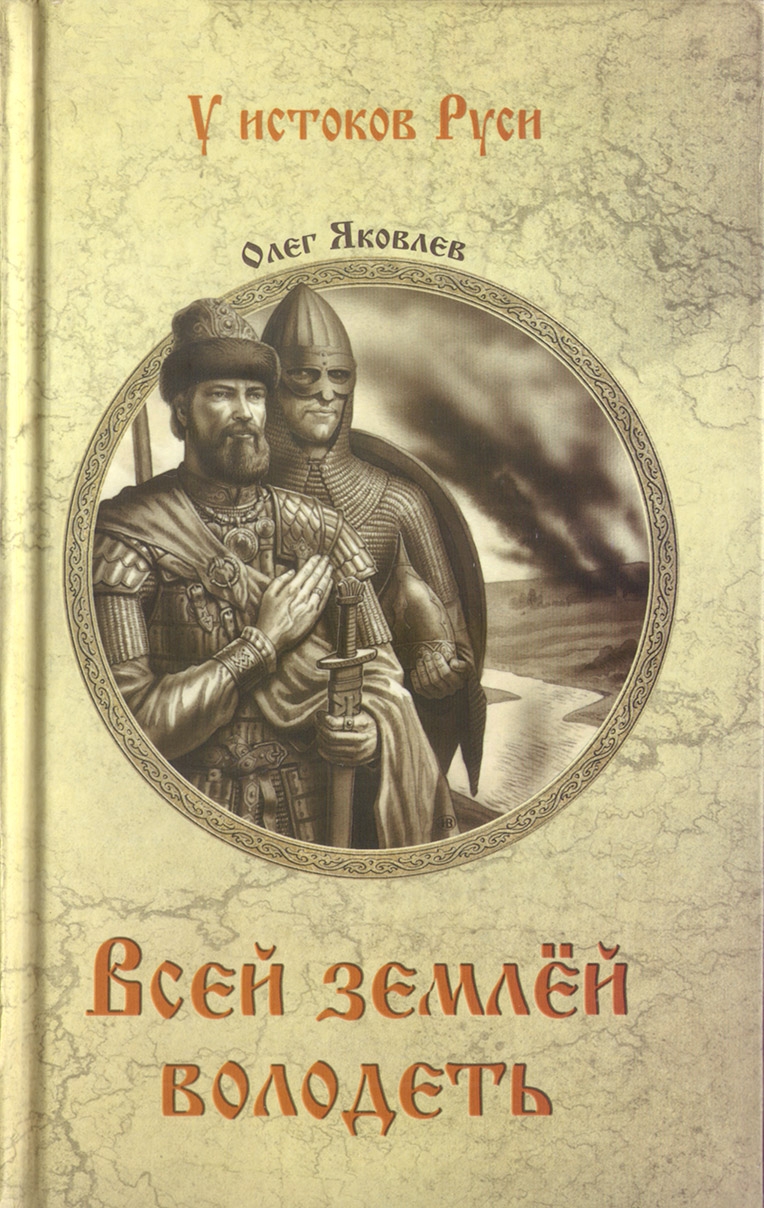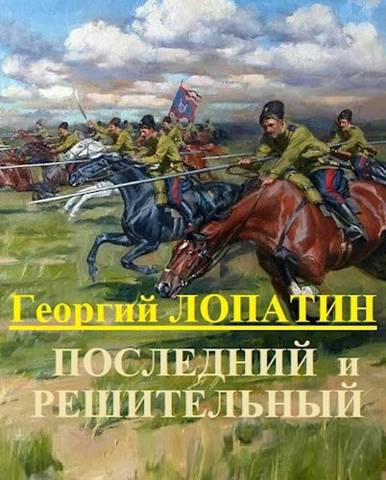Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга рассказывает об истории России, но не в привычном школьном понимании последовательного изложения войн, восстаний, роста ВВП, смены царей, императоров и президентов. Речь пойдет о нескольких периодах в истории нашей страны, когда социально-экономическое развитие в ней небывало ускорялось и вся жизнь приобретала новое качество. Рассматриваются периоды особого напряжения всех сил власти и народа в трех столетиях истории России, Российской империи и Российского государства, сохранившего характер империи, в XVIII, XIX и XX веках.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Олег Игоревич Яковлев»: