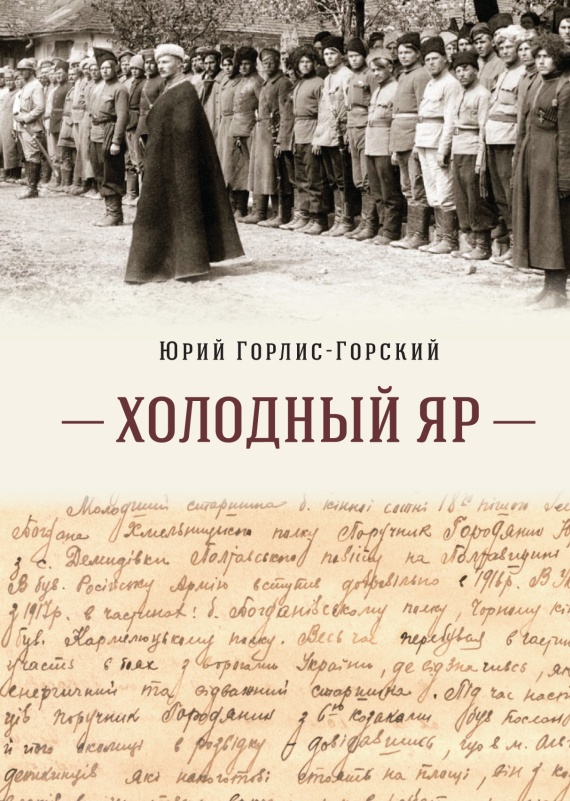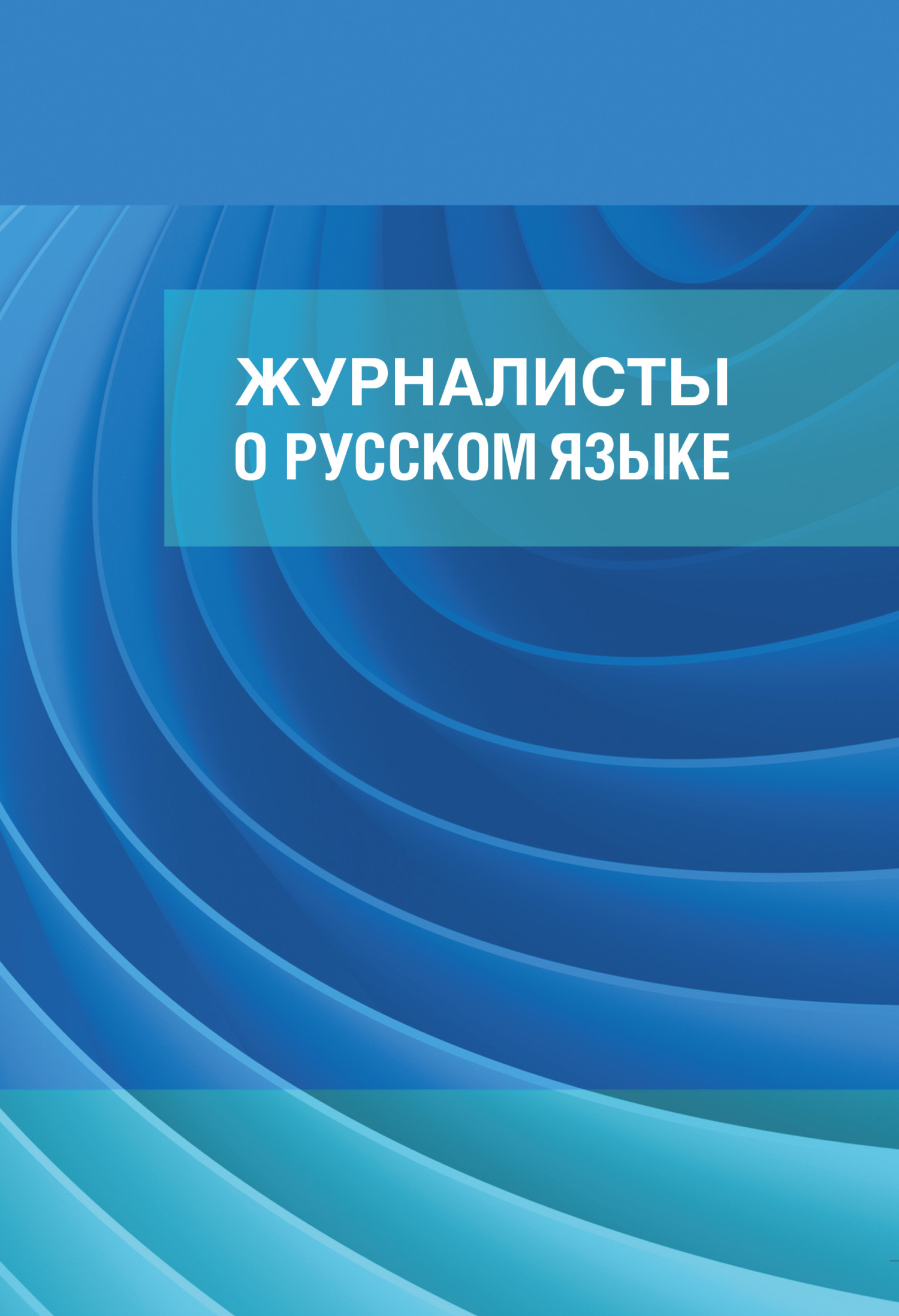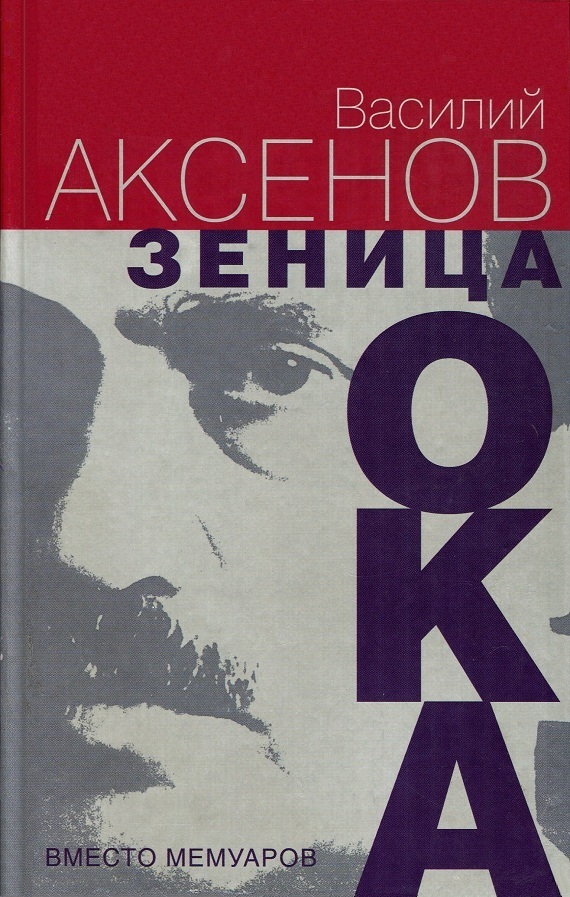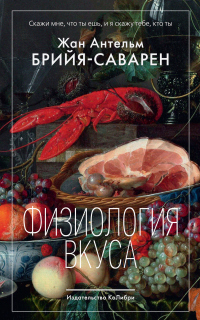Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Холодный Яр» – воспоминания участника Гражданской войны в Украине, похожие скорее на приключенческий роман. Речь идет о почти неизвестных в России повстанцах центральной части страны, долго воевавших как против белых, так и против красных. Эта книга важна и тем, что оказала огромное влияние на формирование националистической идеологии с тридцатых годов до наших дней. К тексту прилагается обширный исторический комментарий, восполняющий обычные для мемуаров неточности и субъективность автора.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Юрьевич Городянин-Лисовский»: