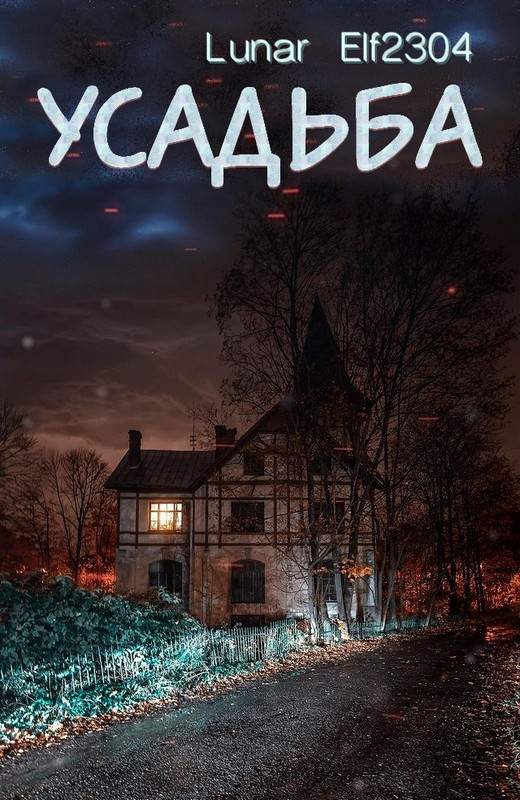Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Введение в мир индейских шаманов, редкое попадание героя в стечение обстоятельств. Роман о том, как одно единственное спонтанно принятое решение может повернуть вспять всю жизнь героя. Нежная привязанность, жесткая необходимость, непонимание, осуждение...
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ольга Любарская»: