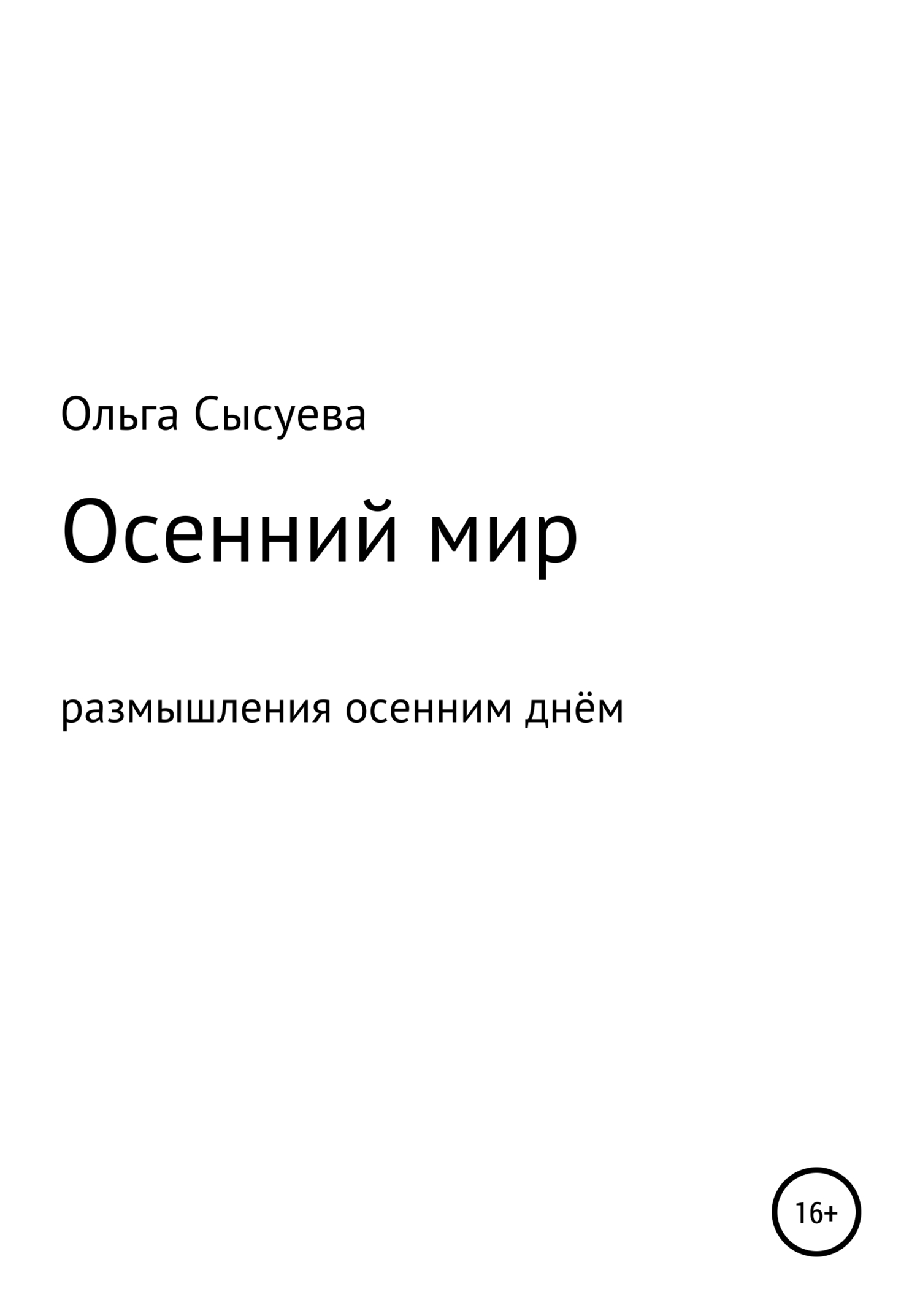Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В городе, над которым светятся две луны, пропал талантливый живописец. Исчезла также его картина, имеющая необъяснимые свойства. Но остался дневник художника, полный загадок и недомолвок. Со всем этим предстоит разобраться частному сыщику. Развязка станет для него шоком и приоткроет изнанку мира.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Прягин»: