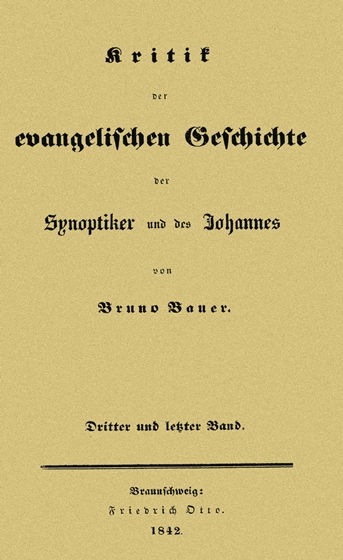Шрифт:
Закладка:
Как звучало прошлое? Каким был мир без автомобилей, самолетов и электричества? Что слышал человек, гуляющий по улицам средневекового города, или даже в эпоху первых цивилизаций, когда на Земле было еще так малолюдно? – Историк, журналист и музыкант Кай-Ове Кесслер знакомит нас с самыми разными источниками шума, как природными, так и связанными с прогрессом и развитием технологий, и представляет историю человечества в необычном и захватывающем ракурсе. «Изучение истории шума сопряжено с одной проблемой. Шумы и звуки мимолетны и исчезают без следа. Только в конце XIX века появилась возможность их сохранения и воспроизведения. Чтобы описать звучание предшествующих эпох, мы должны искать другие источники: дневники, рассказы путешественников, репортажи, судовые журналы, а также картины, рисунки, скульптуры, рельефы, результаты измерений, архитектурные планы, механические конструкции, чертежи, данные психоакустики, анатомические исследования и даже археологические находки… А теперь – в путь! Позвольте провести вас по страницам этой многозвучной истории». (Кай-Ове Кесслер)