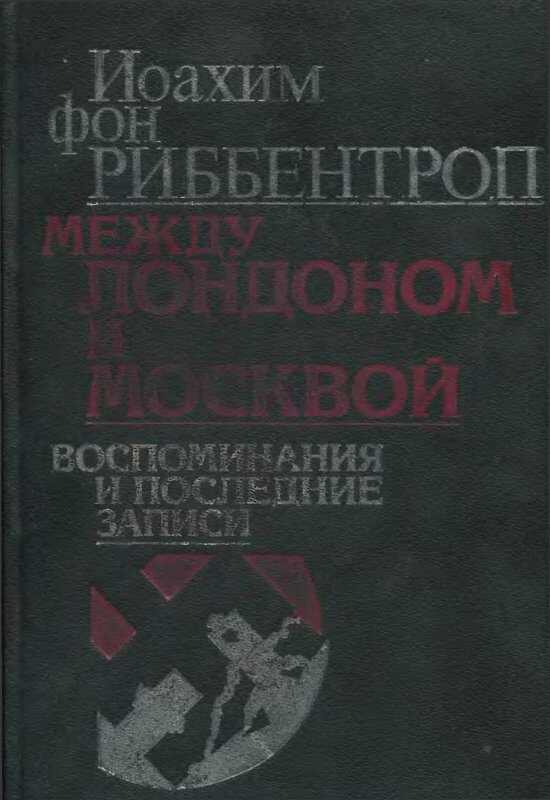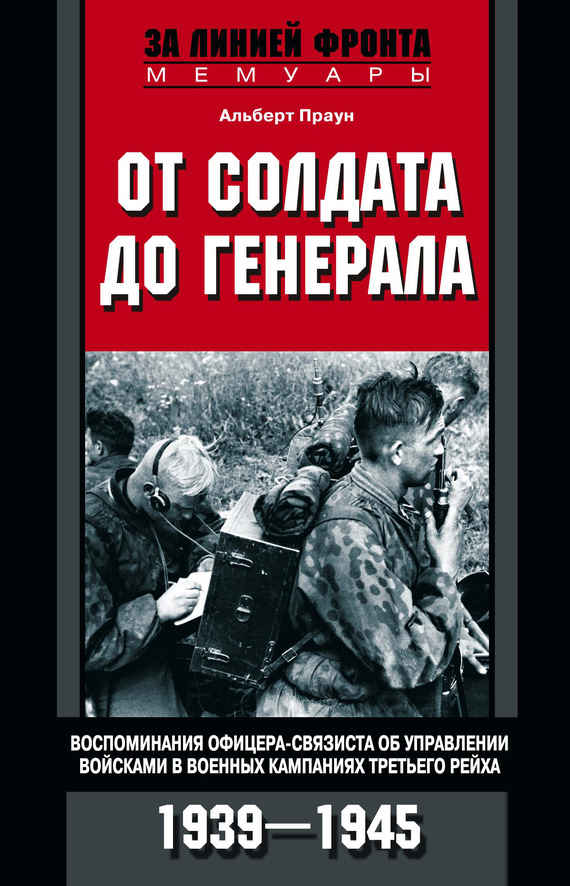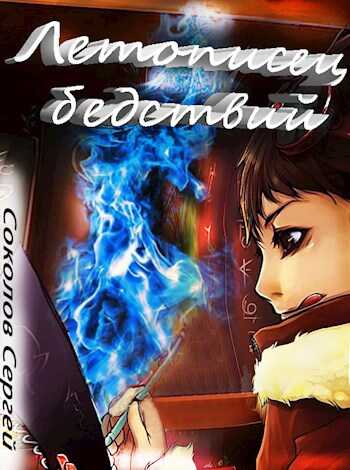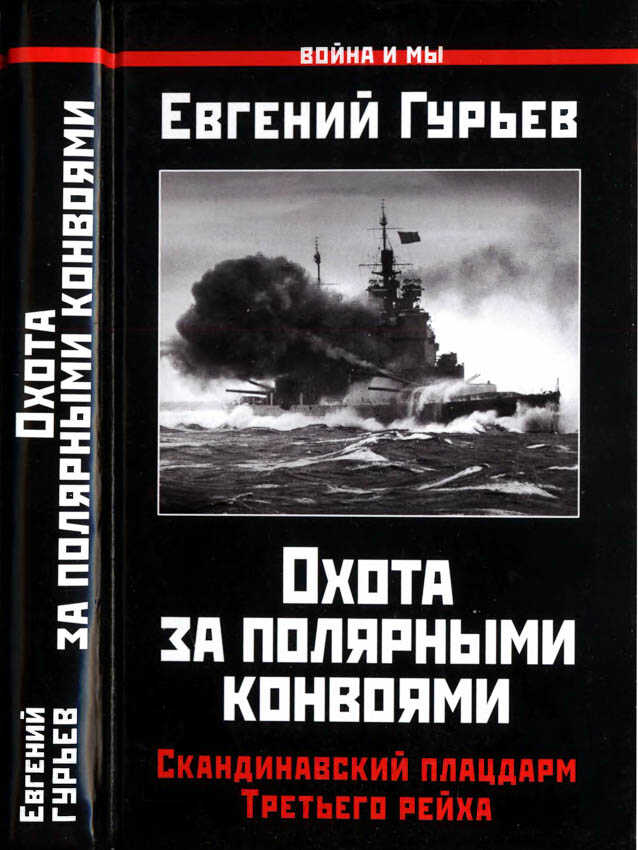Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Мемуары министра иностранных дел фашистской Германии Иоахима фон Риббентропа (1893–1946) частично написаны во время Нюрнбергского процесса и посмертно изданы его женой в 1953 г. Интересны как свидетельство непосредственного участника и организатора важнейших дипломатических акций фашистского режима в канун и во время второй мировой войны.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иоахим фон Риббентроп»: