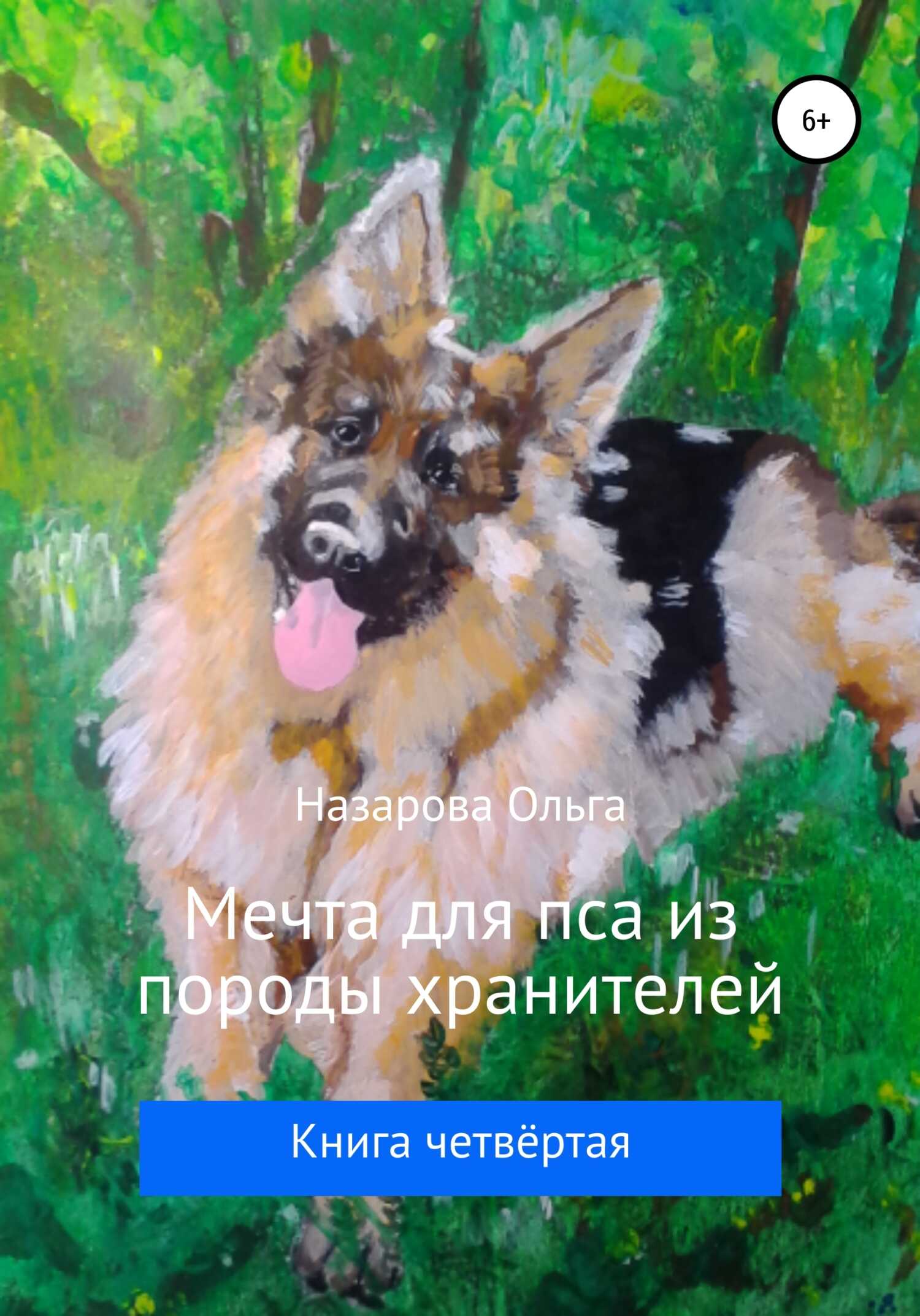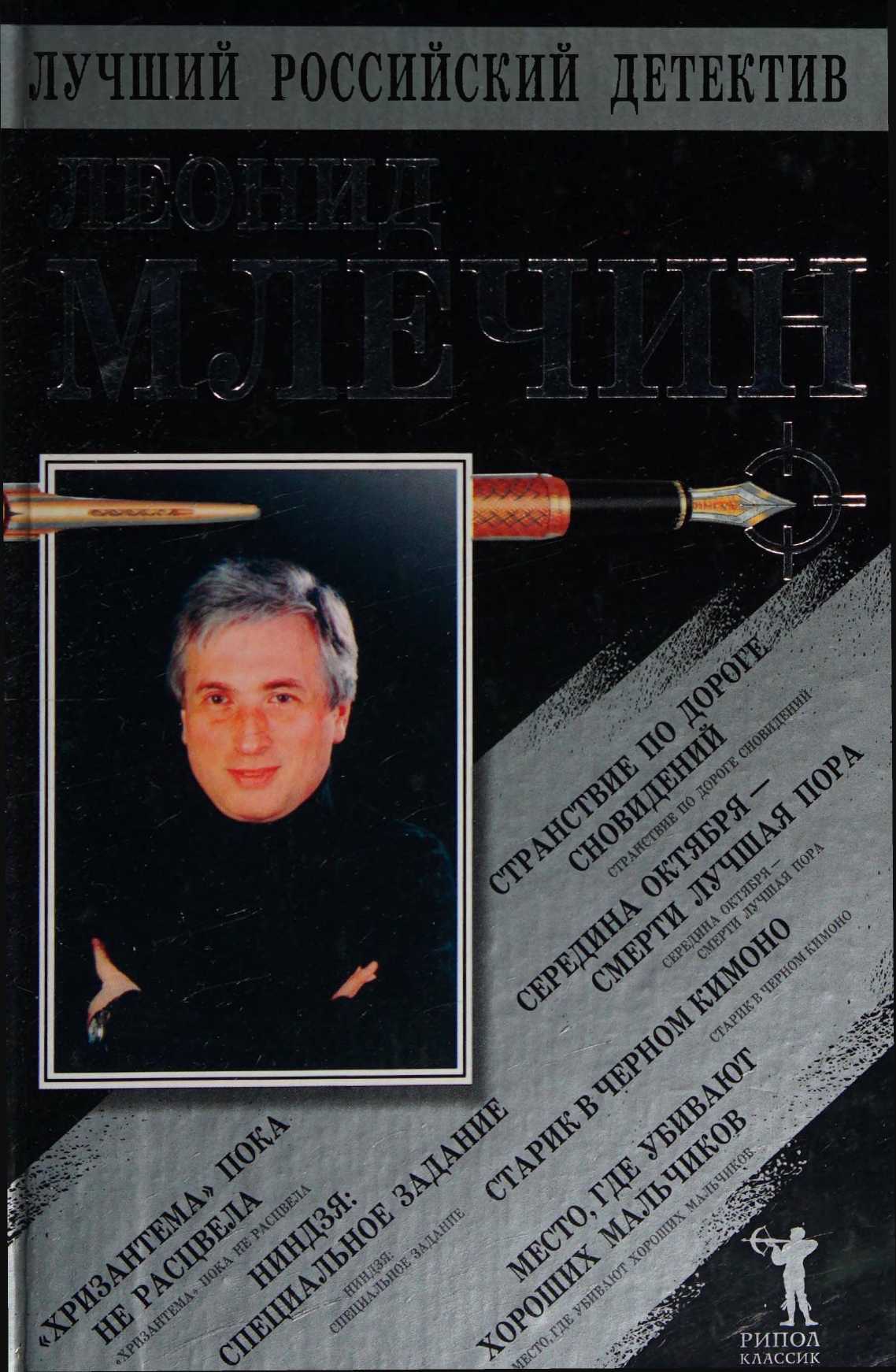Шрифт:
Закладка:
Когда психиатр Оскар Б. Марков приходит в участок на Александерплац подать заявление на того, кто вызвал его на дуэль, полицейские расценивают это как плохую шутку, ведь в современном Берлине подобную «культурную практику» разрешения споров уже давно сменили более цивилизованные методы. Где-то между тихим монастырем, оперным театром и раскисшей от дождя поляной с головокружительной скоростью разворачивается невероятная и очень современная история дуэли, сочетающая в себе гротеск и достоверность, иронию и актуальность. Параллельно Райк Виланд в своем романе рассказывает о последней дуэли в Германии, состоявшейся в 1937 году, и тем самым умело сплетает воедино прошлое и настоящее. Говорите, дуэли — дела давно минувших дней? А вы в этом уверены?