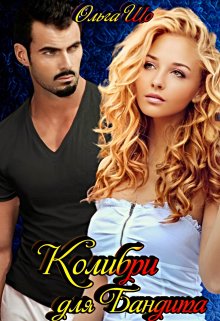Шрифт:
Закладка:
Нюта Федермессер – известный российский общественный деятель, учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», названного в честь ее мамы, врача Веры Васильевны Миллионщиковой, одной из основателей хосписного движения в России.Уже почти два десятилетия Нюта записывает все, что успевает зафиксировать из безумного списка событий и встреч, чтобы однажды остановиться, вернуться, перечитать, чтобы сохранить память.В книге «Камера хранения» собраны крохотные рассказы: заметки на полях, выдержки из дневника, попытки передачи сильных эмоций, записи собственных размышлений и воспоминаний, сны, мечты, путевые записки – о том, что близко и важно всем нам: о любви и печали, о накопившейся боли, о доброте и радости, о причинах своего раздражения и усталости, о счастье, о горечи разлук, о связи родителей и детей, о вере, нежности и сострадании.