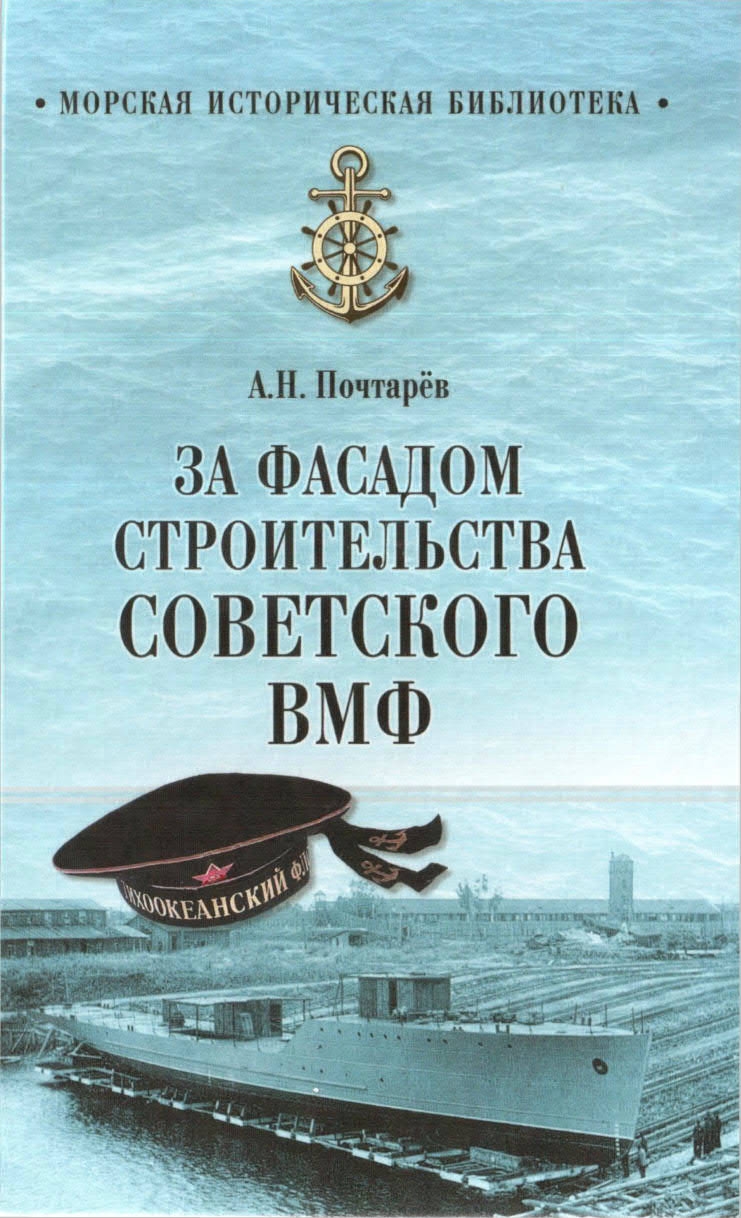Шрифт:
Закладка:
Недалёкое будущее. Старая ООН превратилась в Организацию, полноценное мировое правительство, но так и не смогла стать панацеей от бед человечества. Государства не торопятся отдавать свой суверенитет на фоне глобальных катаклизмов. Китай опустошён техногенной катастрофой. Африка погрязла в междоусобицах. На Ближнем Востоке окопалось Исламское Государство. Вспыхивают восстания и появляются технорелигии, власть уходит в руки всесильных корпораций, а выборы выигрывают фундаменталисты. Северный Альянс – союз США, России и Европы – задыхается от внутренних проблем. Национальный лидер города-государства Шанхая, преподобный Джонс, со дня на день грозит начать ядерную войну. Ленро Авельц – авантюрист, лицемер и циник, наследник огромного состояния и радикальный глобалист. Окончив Политическую академию Аббертона, он заступает «на службу человечеству» и начинает свой путь наверх – к высшим постам в Организации, в перспективе означающим абсолютную власть над миром.Содержит нецензурную брань.