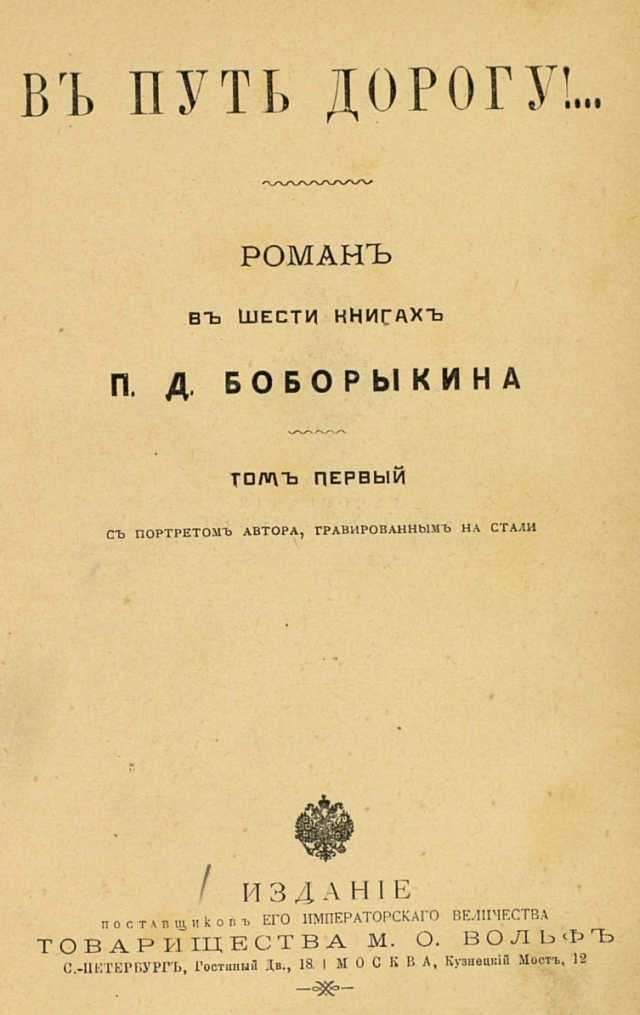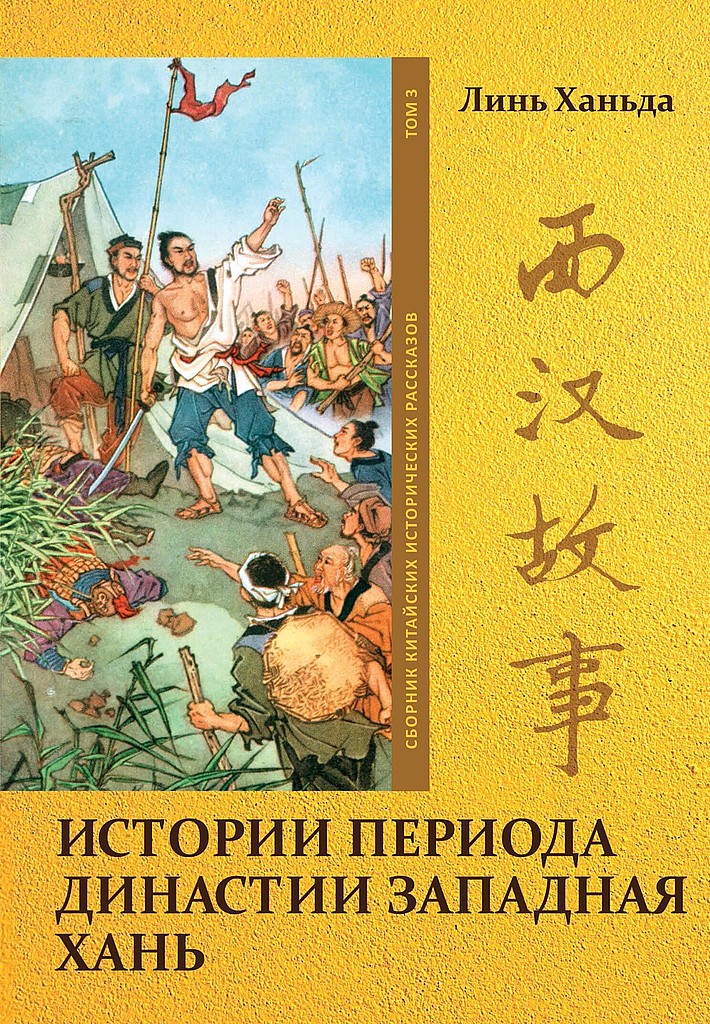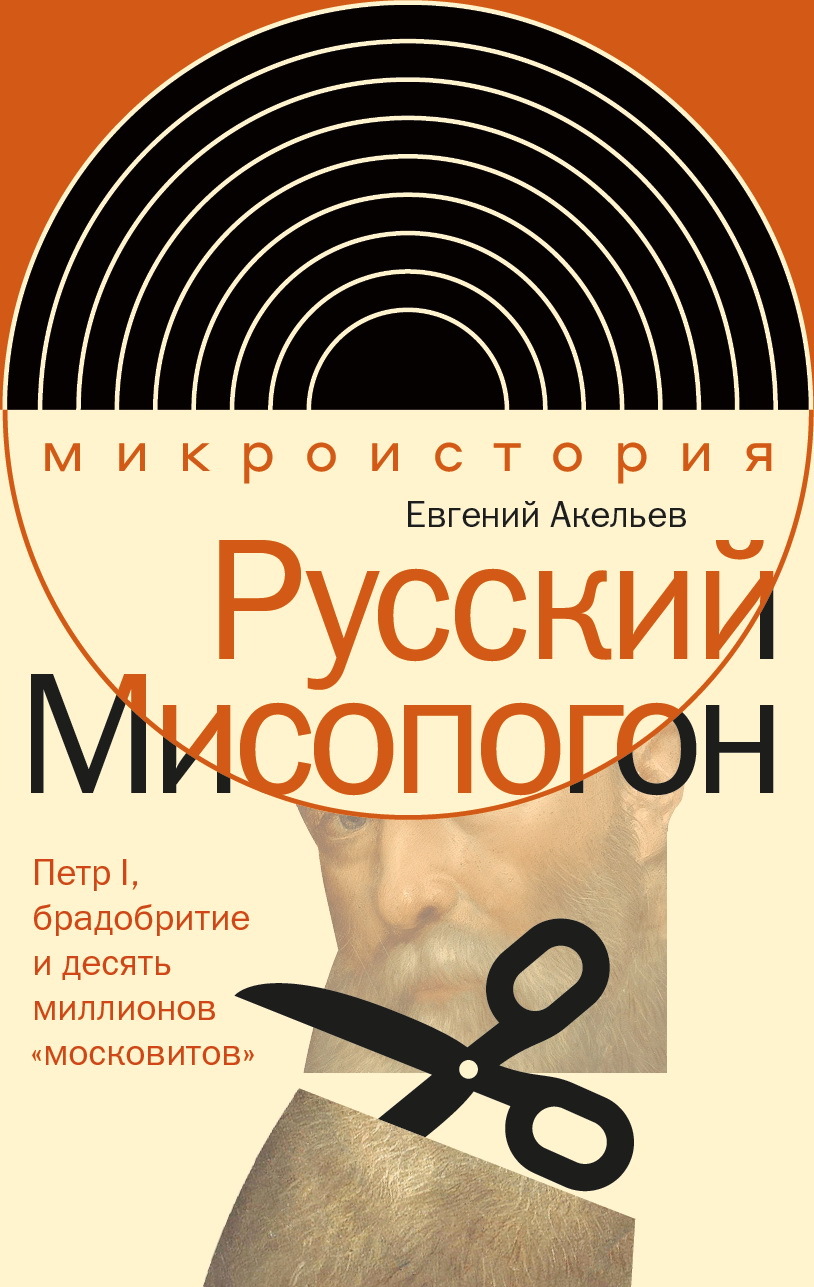Шрифт:
Закладка:
И я зналъ, отправляясь въ Парижъ, по разсказамъ моихъ пріятелей, съ которыми ѣхалъ туда, что тамъ будетъ житься совсѣмъ уже не такъ непріятно, въ смыслѣ личной и общественной свободы, какъ думали тѣ, кто увлекался памфлетами эмигрантовъ, въ прозѣ и стихахъ. Оно такъ и оказалось. Правда, въ первый мои парижский сезон я отдался (какъ говорилъ въ предыдущей главѣ.), почти исключитетьно интересамъ философскимъ, научным и литературнымъ и еще очень мало жилъ тогдашней внутренней политикой Франціи. Однако же, какъ обитатель латинской страны, я могъ чувствовать на себѣ сильный полицейскій гнетъ. Этого не было. Сколько я помню, ни въ первую зиму, ни въ послѣдующіе сезоны, проведенные мною въ Парижѣ до войны, я не имѣлъ рѣшительно никакого столкновенія съ полицейскимъ надзоромъ — и политическаго, и общаго характера. Жилось и тогда такъ свободно, какъ врядъ ли и въ то время и теперь живется нашему студенчеству. Отъ васъ не требовали никакихъ матрикуловъ, нигдѣ не спрашивали паспортовъ и весь контроль заключался въ томъ, что хозяинъ или хозяйка отеля, или меблированной комнаты, заносилъ васъ въ книгу и отмѣчалъ, что, вы — «muni de passeport». Въ моихъ воспоминаніяхъ осталась всего одна фигура полицейскаго агента, въ штатскомъ платнѣ, приходившаго иногда въ бюро того отеля, гдѣ я жилъ; и то это относится уже къ періоду моего парижскаго житья на нравомъ берегу Сены. Въ концѣ шестидесятыхъ годов въ Австрии либеральныя идеи восторжествовали, послѣ раснадешя имперіи на две половины — Цислейтанию и Транслейтанию Иностранцы считали тогда Вѣну императорскою столицей, гдѣ было больше свободы; а между тѣмъ я очень хорошо помню, что въ зиму 69–70 г., когда я проводилъ тамъ часть сезона (и жилъ довольно далеко отъ мѣстной политеческой агитации, усердно посѣщая театры, интересуясь преимущественно общими вопросами), я все-таки былъ обеспокоен полицией. Правда, я состоялъ тогда корреспондентомъ двух русских газетъ, но, повторяю, ни съ какими вожаками партий, непріятныхъ правительству, не имелъ сношеній. Разъ я получаю повестку явиться къ полицейскому комиссару и должен былъ выдержать родъ допроса, правда, въ довольно добродушной формѣ, такъ какъ коммиссаръ былъ родомъ чехь и не хотел очень придираться къ «брату-русскому». Ничего подобного не случилось со мною за всѣ годы бонапартова режима, какіе я провелъ въ Парижѣ.
Въ палатѣ оппозиція уже значительно подняла голову; въ газетной прессѣ наибольший успѣхъ имѣли газеты, враждебныя правительству. Нѣсколько новыхъ органовъ народились уже на моихъ глазахъ, и такихъ несомненно республиканскихъ, какъ газета «Rappel» — органъ тогдашняго великаго изгнанника, — «поэта солнца», руководившаго имъ съ своего острова. И правительство Наполеона III-го вступило, какъ разъ къ тому времени въ полосу добровольнаго или вынужденнаго либерализма. Моментъ до выставки 67-го г. былъ какъ бы кульминаціоннымъ пунктомъ единоличнаго имперіализма, когда государственный министръ Руэръ выступалъ всего чаше, какъ матадоръ этого режима. Но это уже были послѣднія схватки и я думаю, что императоръ видѣлъ это гораздо яснѣе, чѣмъ его главный борецъ на трибунѣ законодательнаго корпуса.
He замѣчалъ я въ первую зиму и особеннаго гнета въ уличной жизни Парижа — въ театрахъ, кафе, всякаго рода сборищахъ, если судить по тону разговоровъ. По крайней мѣрѣ, въ Латинскомъ кварталѣ мы говорили о чемъ угодно и очень громко. Шпіонство, разумѣется, шло своимъ чередомъ, но оно было опасно для тѣ,хъ, кто действительно игралъ ему въ руку. Полиція и полицейскій трибуналъ — police correctionnelle — гдѣ судились дѣла по государственнымъ проступкамъ и преступленіямъ — усердствовали и раздували изъ мухи слона; въ каждомъ заговоре; или тайномъ обществѣ, навѣрно попадала, минимум, одна треть мушаровъ. Право сходокъ фактически не существовало, и на тѣхъ митингахъ и засѣданіяхъ, которые правительство разрѣшало — всегда сидѣлъ комиссаръ. Въ театрахъ цензура еле-еле допустила возобновить драму Виктора Гюго «Hеrnаnі» и частенько накладывала свое veto на новыя произведенія драматурговъ. Но Парижъ все-таки жилъ довольно свободно и оппозиціонный духъ придавалъ ему такой оттѣнокъ, какого вы тогда не находили ни въ Лондонѣ, ни въ Вѣнѣ, и только отчасти въ Берлинѣ, даже и послѣ войны 1866 года. Тогда малѣйшій фактъ общественной жизни — всякій памфлетъ, передовая статья, брошюра, пьеса, анекдотъ, скандалъ — все было поводомъ къ проблескамъ недовольства. И населеніе Парижа, въ массѣ, никакъ уже нельзя было считать хотя сколько-нибудь преданнымъ бонанартову режиму. Учащаяся молодежь, на лѣвомъ берегу Сены, вела безпечную, веселую жизнь; но направленіе ея было окрашено скорѣе радикально, и по общимъ идеямъ, и въ чисто политическомъ смыслѣ. Правитель ство это хорошо знало. Оно знало то, что въ Латинскнй странѣ водятся уже кружки и сборища, откуда должны выйти проповѣдники революціонныхъ идей, будущіе организаторы и трибуны не на нравомъ, а на лѣвомъ берегу Ссны. Въ знаменитомъ когдато Café Ргосоре — теперь уже не существующемъ — за чашками кофе и стаканами пива, происходили горячія бесѣды и произносимись рѣчи, одушевленныя самымъ непримиримымъ духомъ оппозиціи тогдашнему режиму.
Оттуда взоры передовой молодежи устремлены были въ двухъ направленіяхъ, на западъ: на островъ Джерсей, и Лондонъ, гдѣ жили Викторъ Гюго и Луи Бланъ, и на членовъ оппозиціи законодательнаго собранія. За мраморными столиками Café Ргосоре раздавались громовыя рѣчи тогда еще безвѣстного молодого адвоката, южанииа итальянскаго пронсхожденія — Леона Гамбетты. И кто поинтересуется тогдашнимъ броженіемъ парижской молодежи — заглянетъ въ мою статью, написанную въ одну изъ зимъ конна десятилѣтія и озаглавленную «Левъ Латинскаго квартала». Этому заглавию поводомъ послужила песпя сочиненная эмигрантомъ прославившимъ себя брошюрой «Les propos dé Labienus»-Рожаромъ. Брошюра была запрсщена; но все-таки распространялась по всему Парижу, п ея чрезвычайный успѣхъ показывалъ уже, что автору переворота 2-го декабря придется, въ