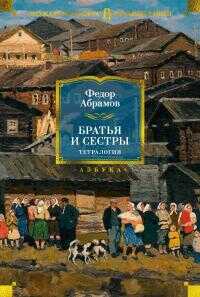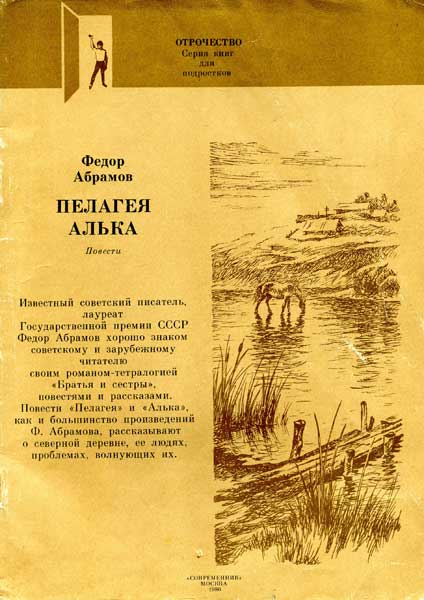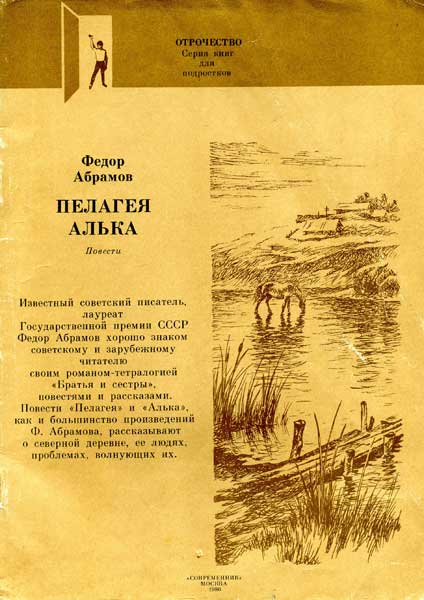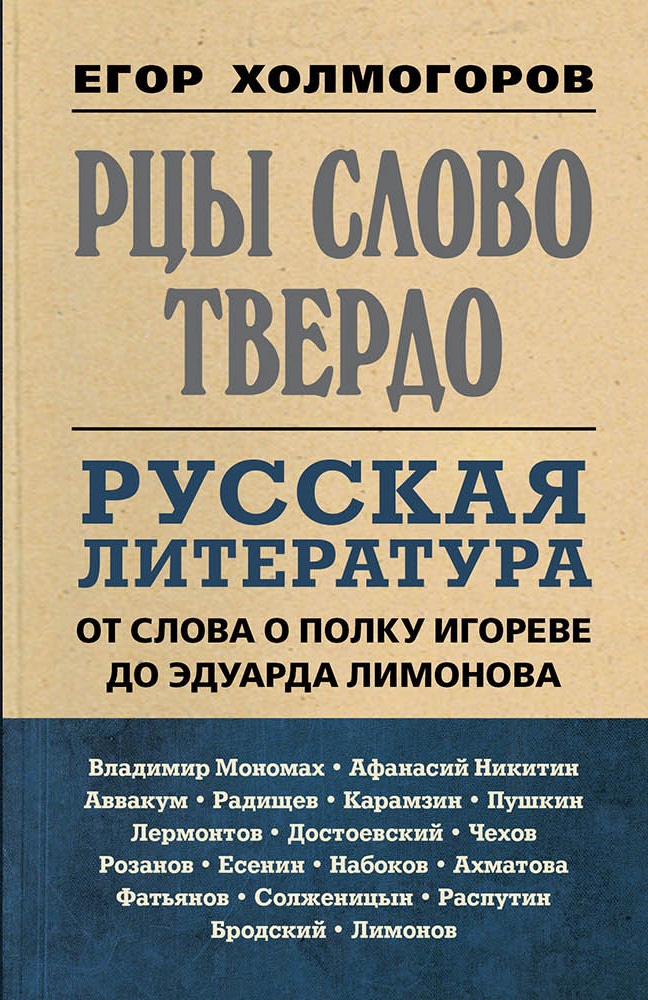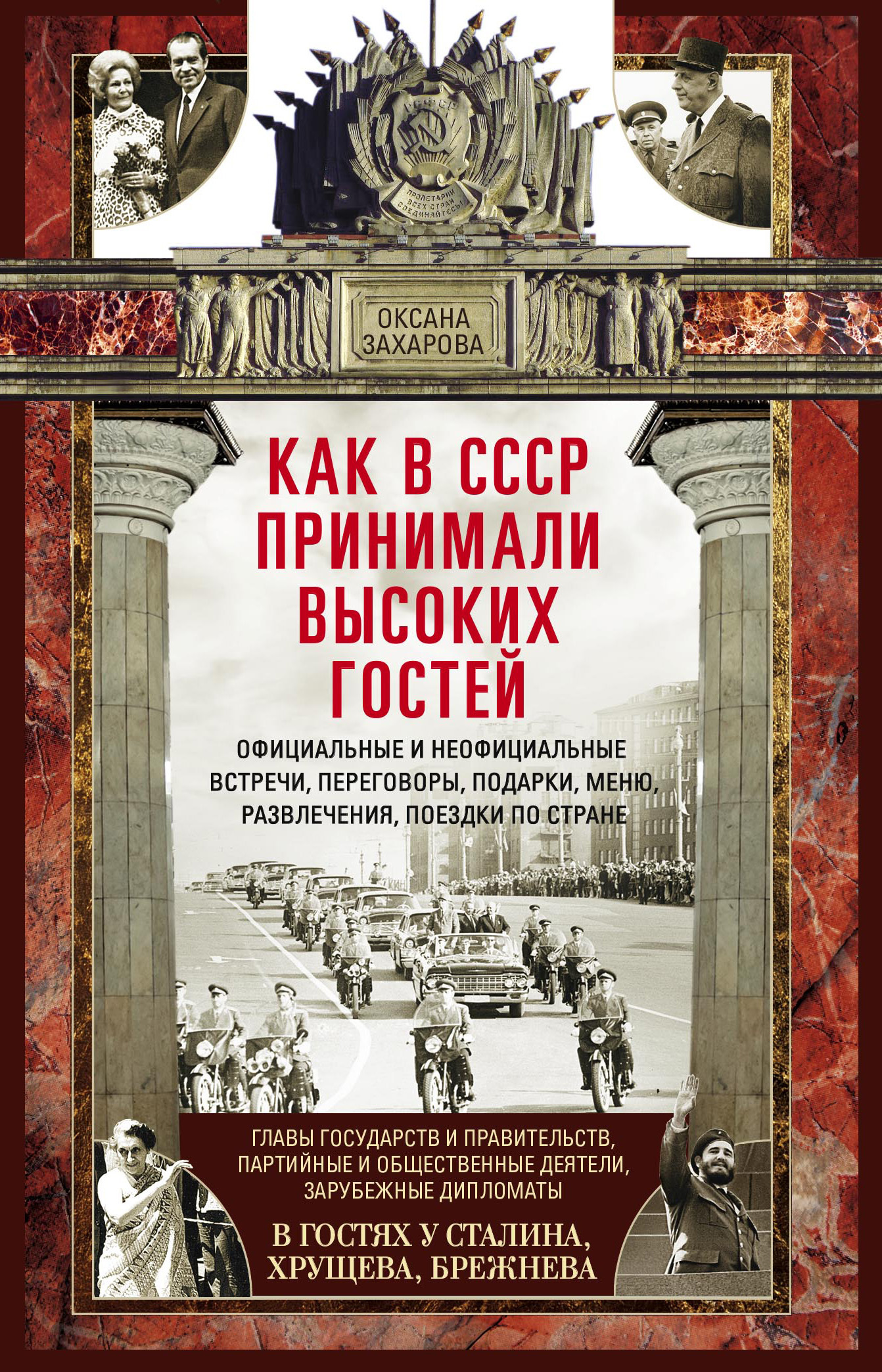Шрифт:
Закладка:
Федор Абрамов (1920–1983) родился в крестьянской семье в деревне Вёркола Архангельской области. В июне 1941 года добровольцем ушел на фронт, был ранен, пережил блокадную зиму в ленинградском госпитале. «В конце зимы сорок второго года меня, тяжелораненого фронтовика, вывезли из блокадного Ленинграда на Большую землю, – вспоминал Абрамов. – После долгих скитаний по госпиталям я наконец очутился у себя на родине – в глухих лесах Архангельской области… Много видел я в то лето людского горя и страданий. Но еще больше – мужества, выносливости и русской душевной щедрости…» На основе увиденного родились «Братья и сестры», дебютный роман Федора Абрамова. Книга вышла в свет в журнале «Нева» в 1958 году и сразу завоевала любовь читателей, а впоследствии получила продолжение в романах «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом».