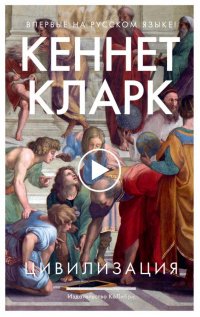Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В 1969 г. телеканал Би-би-си представил зрителям документальный сериал «Цивилизация. Личный взгляд Кеннета Кларка». Скептики были озадачены: кого, в самом деле, в 60-х могли заинтересовать взгляды на историю западной цивилизации лорда Кларка – историка искусства, без малого ровесника века, ученого эстета, любителя твидовых костюмов и обладателя собственного замка (в котором даже не было телевизора)? Скептики оказались посрамлены: сериал побил все рекорды популярности, положил начало жанру, а Кларк с его рафинированной речью и аристократическим произношением стал любимцем публики. В том же 1969 г. сборник сценариев сериала был опубликован в виде книги, немедленно ставшей бестселлером, переведенной на многие языки и по сей день регулярно переиздаваемой как в Англии, так и в других странах. Сейчас, по прошествии лет, еще более очевидно, что благодаря своей поистине феноменальной эрудиции Кеннет Кларк справился с невероятной сложности задачей. Мастерски легко он переносит своих зрителей – и читателей – из страны в страну, из эпохи в эпоху, словно кусочки мозаики, вдохновенно расставляет по местам идеи, книги, здания, произведения искусства и великих людей, создавая замысловатую и увлекательную картину «цивилизации по Кларку».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Кеннет Кларк»: