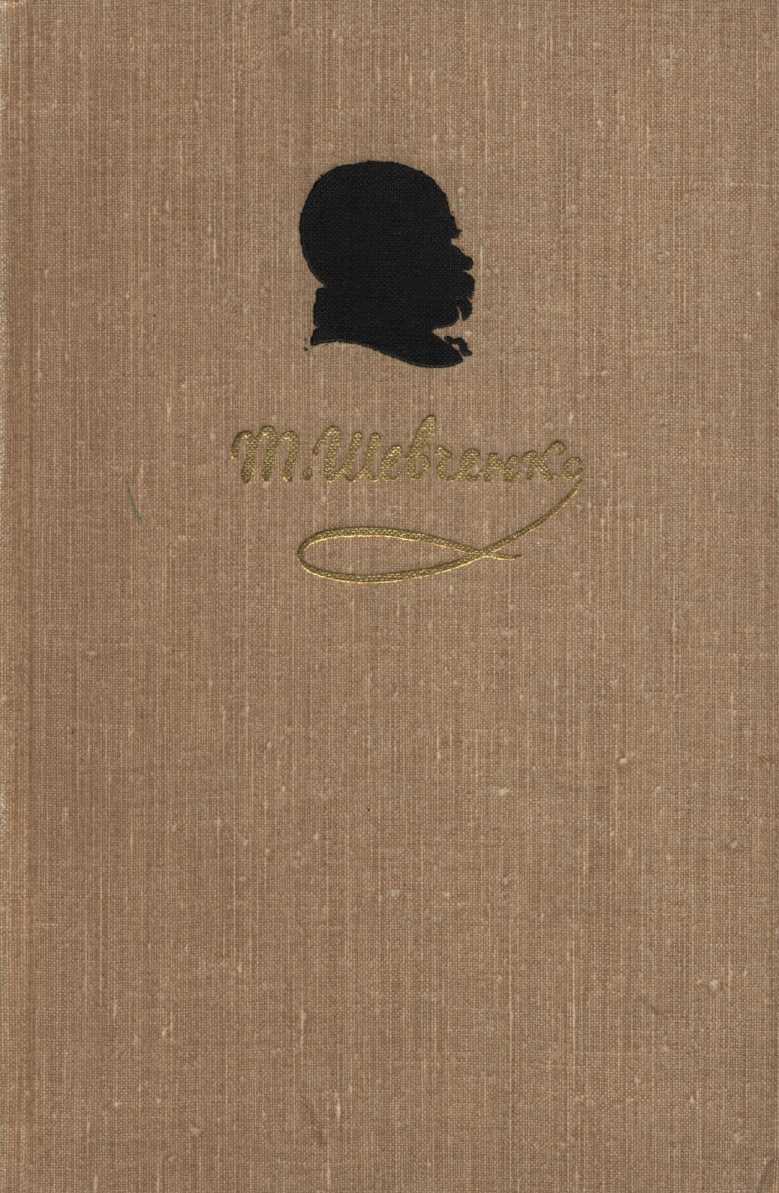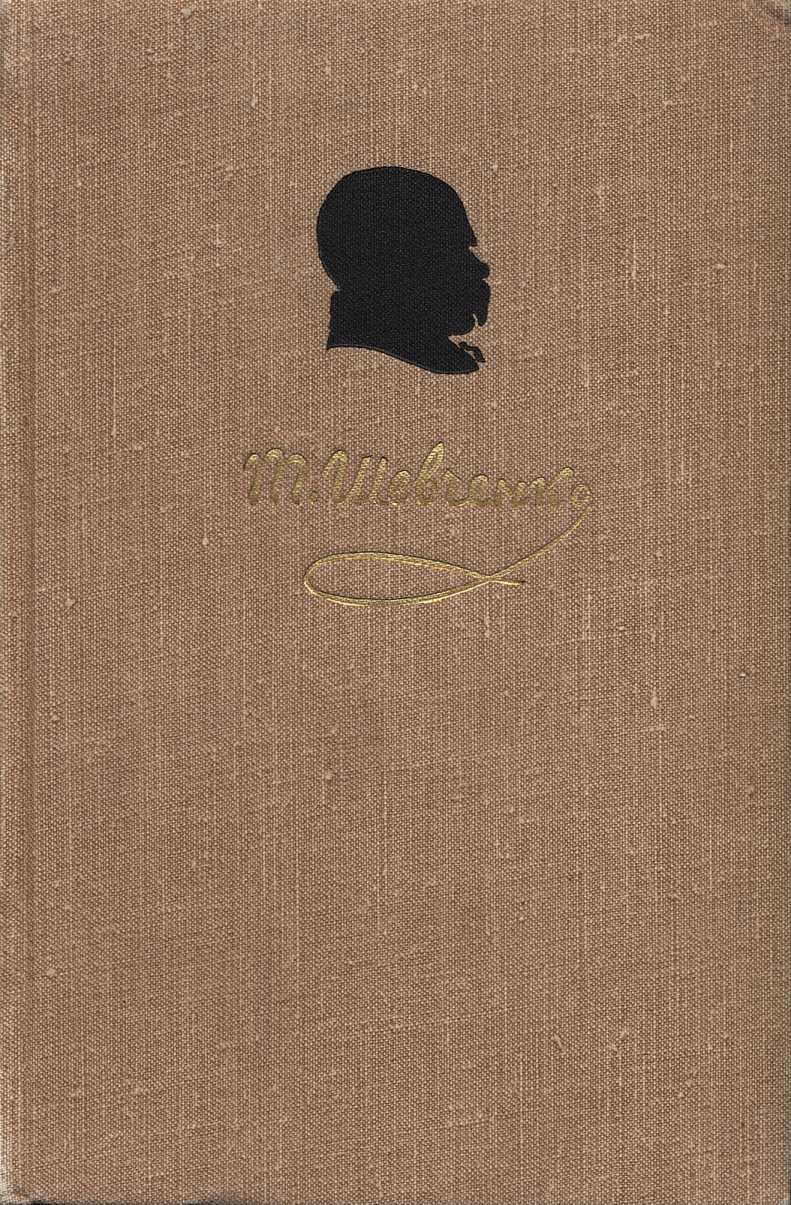Шрифт:
Закладка:
Осенью чуть ли ле в каждом дворе — той. Выводят причудливые мелодии заливистые сурнаи. Призывно и мощно оглашает окрестность трубный голос карнаев. Его слышат долина и седые, задумчивые горы. На звук карнаев стекаются люди…
Сегодня в Зилха опять той. Тетушки, без которых свадьба не свадьба, спешат на торжество. По обычаю джигиты преграждают им путь ременными арканами, не пускают. Но цветные, повязанные поверх халатов платки, в которых на этот случай завернуты деньги, расчищают дорогу к дому невесты. Вот уже гостей полон двор, уже привезли невесту, но свадьба не начинается: все ждут ее, Саодат-оя. Вскоре приходит и она. Ради торжества на плечи наброшен белоснежный платок. Подошла к молодым, благословила, молитвенно провела ладонями по щекам, и зашумел той на всю округу.
А Саодат-оя тихо наблюдала за весельем, прислонившись головой к колонне веранды. Грусть и радость одновременно поселились в ее глазах, она смотрела на певца, который сидел, скрестив ноги, и мерно раскачивался в такт песне. Старой женщине казалось, что он опьянен своим голосом и внимательно прислушивается к нему.
Не надо ни ада, ни рая — лишь была бы любовь.
Я готов отказаться от жизни, так волнуешь ты кровь.
Мать, вникнув в смысл песни, печально вздохнула: когда ее выдавали замуж, о любви не пели. Песни были скорбными и печальными. Она вдруг вспомнила врезавшиеся в память слова из песни, что слышала много лет назад на своей свадьбе:
Цветок бутоном взора
не ласкает.
Раскрылся — руки жадные срывают.
И розы аромат не вечен:
жизнь его — мгновенье.
Одни шипы живут,
когда конец цветенью…
Она увидела себя девочкой, птенчиком, которого везли к жениху на кокандской арбе с огромными скрипучими колесами. Как это было давно! Неутешное горе тогда душило ее, и, как сквозь сон, слушала она песню утешенья:
Не плачь, девочка, не плачь. Муж
твой послан богом, ер-ор.
Ты войдешь хозяйкой в дом с золотым
порогом, ер-ер.
Золотые пороги… Она усмехнулась своим мыслям. Но было порога даже деревянного. Сырость от земляного нола пронизывала до костей, крыша защищала от дождя понадежней сита, а под потолком свили гнезда летучие мыши. Золотые пороги!..
Если верно говорят, что человеку дано цвести десять раз, то она не успела расцвести и одного раза, когда завял и этот нераспустившийся бутон. Что оставалось ей, как не трепетать от холода и голода горлицей, попавшей в силки…
Словно вчера это было, так помнит она свою свадьбу. Соблюдая обряд, в кругу женщин и подруг пришла заплаканная, поздоровалась с его матерью.
— Тебе понравился жених? — спросила та, которая дала жизнь ее нареченному.
— Да ну вас! — только и смогла произнести Саодат, от стыда прикрыв лицо длинным рукавом.
Теперь ты, дочь моя, не таи от меня секретов.
— Неплохой он, — раскрыла сердце Саодат. — Вот только беден.
— Богат, кто в малом признает богатство, дочка. Я расскажу тебе старинную легенду. Хумаюн — сын Бабур-шаха — любил прекрасную Акику. Её женой своей назвать он собирался. Вот что сватам ответила Акика: "Не выйду за богатого шаха: подол его расшитого халата своей рукой достать я не сумею. Мне по сердцу бедняк, чтоб его шею смогла обвить я жаркими руками".
— А что, богатство — так презренно?
— Не торопись, дитя, с вопросом. Раскуси сначала орех услышанного. Скажи мне лучше, чего бы ты хотела: быть женою любимого бедняка, или в богатом доме для старшей жены выжимать усму? По глазам вижу — хочешь любви. Бедняк в ней не помеха. Запомни: сделать мальчика мужем и свести мужа в могилу, может только жена…
На всю жизнь запомнила Саодат эти слова. Как пара голубей, жили они с мужем. Детишки пошли — птахи-щебетухи. На крыльях счастья летела она. Может быть, всю жизнь, прожила бы в мире и согласии с любимым, да помешала война.
Со страшной отчетливостью помнит она тот страшный день. Как раз поспели огурцы, урожай выдался богатый. Женщины на поле собирали их в огромные корзины. Вдруг прямо по грядкам, но огурцовым плетям бежит девушка-почтальоп. Запыхалась. Люди, понятно, сразу окружили ее, спрашивают наперебой:
— Что случилось?.
А она в ответ залилась слезами, выдохнула:
— Война!..
Никогда слово "война" не вызывало у женщин радости. Они созданы для мира, для продолжения жизни на земле. Всякое убийство и насилие противоестественно их природе. Война! Страшную весть принесла девушка-почтальон. Непослушными руками, женщины пытались повязать платки, но те выпадывали из рук. А когда матери до конца поняли смысл страшного слова, не сговариваясь, бросились по домам, к детям, чтобы защитить их от лихой напасти. Зловещим казался привычный шум деревьев. Стало трудно дышать, словно налетел горячий ветер.
Война! И сердце матери сжалось тоской. Что будет с ее сыновьями, что ждет их в схватке с врагом — жизнь пли смерть? Она потеряла покой, ночи проводила без сна, будто лежала на колючей траве. Однажды сквозь тонкую перегородку она услышала голос старшего сына, получившего повестку. Он в сердцах сказал молодой жене:
— Лучше бы мне не жениться. И сорока дней не прошло со дня свадьбы, как пора расставаться. Что теперь будет с тобой?
— Не беспокойся, любимый. Сила в руках есть смогу вместо тебя кетменем работать, — прокормлюсь. Не в пустыне жить, — среди людей. Да и надо-то мне одной самую малость.
— А мать как? Что будет с ней?
— Будь спокоен. Я навсегда останусь при ней.
— Если…
— Что, если?
Мать почувствовала, что невестка прильнула к мужу, ласкает его.
— Если родится сын, назови — Зафар, дочку нареки Музаффарой…
…А потом был вокзал, проводы. Каждый день кто-нибудь из кишлака уходил защищать Родину. Настала очередь и младшего сына Саодат-оя — Арифа. Вот и за ним улеглась дорожная пыль…
Не было в те времена в Зилхе человека, которого ждали с таким трепетом и тревогой, как почтальона. Нет-нет да и вместе с треугольниками-письмами в своей сумке он приносил похоронки. Сердце Саодат-оя сжималось, как сохнущий гранат. "А как там Азиз и Ариф? Что с ними?" — спрашивала она себя бессонными ночами. И только письма смягчали тревогу, как солнце-вешний снег. Последнюю весточку, что прислал Ариф, она носила с собой. Вот что писал он: